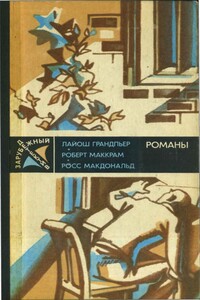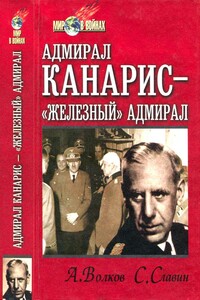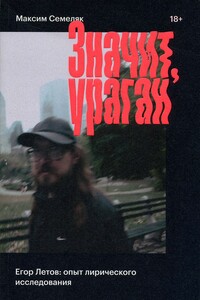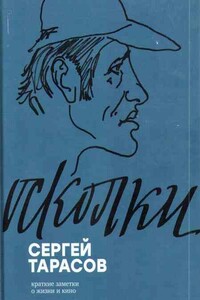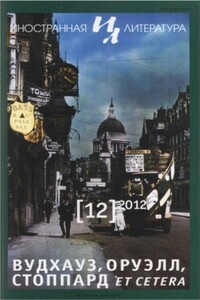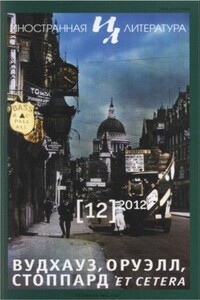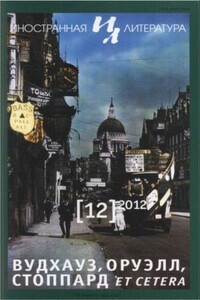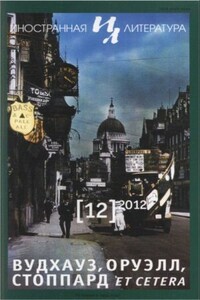Вудхауз не был особенно близок с матерью. Повзрослев, он редко с ней встречался — и то лишь в обществе своего брата Армина, которого брал для моральной поддержки. Она слишком много командует, говорил он, и слишком строга к слугам. Изображая в первой главе «Неуемной Джилл» молодого англичанина, которым помыкает мать, Вудхауз, кажется, обращается не столько к воображению, сколько к собственным воспоминаниям. Он ничего не пишет в мемуарах о своих чувствах к матери, но за десять лет после смерти отца он посетил ее лишь однажды, а это говорит о многом.
Для своего времени и общественного положения Эрнест и Элеонора Вудхауз были типичной викторианской супружеской четой. Они произвели на свет нескольких сыновей, назвав их необычными именами: Филипа Певерила (Пева) в 1877 году, Эрнеста Армина (родившегося в 1879 году после двух умерших в родах близнецов), самого Плама и, наконец, Ричарда Ланселота Дина (Дика) в 1892 году — но затем совершенно устранились от всякого родительского участия, как и было принято в колониях. С первых дней жизни Вудхауза отец с матерью были для него в лучшем случае дальними родственниками, в худшем — совершенно чужими людьми. В прозе Вудхауза удивительно мало отцов и матерей, а те, что имеются, обычно сдержаны, холодны, строги и не проявляют любви к своим детям. Дети отвечают им взаимностью. Когда Вудхауз пишет про сына лорда Эмсворта: «Кого-кого, а своего отца Фредди видеть не хотел», — он опирается на собственный опыт.
В 1881 году, гостя у сестры в Гилфорде, Элеонора раньше срока родила маленького Плама и вскоре увезла его в Гонконг, где, как это было заведено, отдала кормилице-китаянке. В 1883 году Эрнест и Элеанора привезли малыша Вудхауза вместе с двумя его старшими братьями в Бат и поручили их заботам мисс Ропер, поборницы чистоты и порядка. Это ее Вудхауз выводит в рассказе «Снова о нянях», где пишет: «А главное, может ли тонкий человек ощущать покой рядом с тем, кто бивал его некогда головной щеткой?»[5]
Целых три года юные Вудхаузы не видели ни Эрнеста, ни Элеонору. Помещенные под своего рода домашний арест, они разделили судьбу многих детей Британской империи конца XIX века. Если сложить все то время, что Вудхауз провел с родителями между тремя и пятнадцатью годами, то в сумме едва ли наберется полгода — чудовищно мало, как ни посмотреть. «Мать казалась нам чужой», — вспоминал он в старости. Тогда подобное отчуждение родителей от детей считалось нормальным. Сегодня оно кажется безответственным и даже бездушным. Это разобщение наложило отпечаток на всю жизнь будущего писателя.
Литературоведы часто сравнивали детство Вудхауза и Киплинга. Несмотря на разницу в возрасте (Киплинг был на шестнадцать лет старше), сходство и в самом деле заметно. Оба — представители среднего класса, оба росли в поздневикторианской Англии, пока их родители были на Востоке, обоих воспитывали чужие люди, у обоих рано проявился талант рассказчика. Но Вудхауз гораздо легче переносил свое полусиротское положение — возможно, просто потому, что его не чувствовал или не позволял себе чувствовать.
Для очень многих писателей душевные раны служат источником вдохновения. По сравнению с другими писателями: Редьярдом Киплингом, Г. X. Манро (Саки), Сомерсетом Моэмом или Джорджем Оруэллом, выросшими в сходных условиях и перенесшими сходную психологическую травму, — Вудхаузу повезло: тяжесть травмы смягчалась его удивительно легким, покладистым и приятным нравом, о котором вспоминали все, кто только его знал. Детство приучило его к одиночеству, а гений (и это не преувеличение) помогал ему заполнять одинокую жизнь смешными фантазиями. Он увлеченно исследовал глубины абсурдного; то была часть его защитной стратегии. Вудхауз очень серьезно относился к своему творчеству, но оно, увы, как и все комическое, противится серьезному анализу. В зрелом возрасте он всегда гнал от себя уныние и тоску, а его родные делали все возможное, чтобы оградить его от огорчений. Интересный факт: в немецком плену он записал в дневнике, что для защиты от непереносимых мыслей «нужно приучить себя тут же переключать внимание на другое». Если обратиться к «психологии индивидуума» (выражаясь словами Дживса), идеализация Вудхаузом родителей — хрестоматийный случай того, что в психоанализе называют расщеплением. Уже пожилым человеком, вспоминая о родителях, он сказал: «Отец нам во всем потакал, мать не очень… С отцом… у меня всегда были очень хорошие, хоть и не слишком близкие отношения». Такие признания для Вудхауза редкость: обычно он — сама уклончивость. В зрелом возрасте, благодаря постоянным путешествиям, он довел искусство эскапизма до совершенства[6]. Психотерапевт решил бы, что это реализация детской мечты о бегстве из семьи, но в текстах Вудхауза этого не видно. В мемуарах он продолжает, как сказал бы Берти Вустер, носить маску:
Для автобиографии нужны чудаковатый отец, несчастливое детство и жуткая школа. У меня ничего такого не было. Отец — нормален, как рисовый пудинг, детство — лучше некуда, а школа — шесть лет блаженства[7].
Но что бы он ни говорил, детство у него было одинокое и эмоционально бедное, что приучило его довольствоваться собственным обществом, уходить в себя, спокойно отрешаться от этого мира и искать развлечений в мире другом — воображаемом. Он всегда говорил, что хочет стать писателем. Богатство его вымышленного мира отражает пустоту того действительного мира, который окружал его в ранние годы.