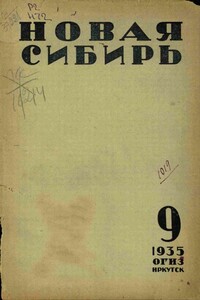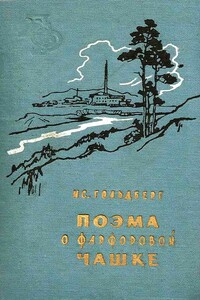Устинья Гавриловна, пришибленная и раздавленная свалившеюся на нее бедою, пришла к Власу:
— Влас Егорыч, неужто на них никакой управы нету? А, Влас Егорыч?
Влас молчал. И старуха заплакала, заголосила. И слезы ее были обильны, безудержны, по-бабьи бесконечны, как по покойнику.
— Разорили! Батюшки светы! по миру пустили!.. Ну все, ну все, как есть, отняли, окаянные!.. Пеструшку доморощенную, коровку родную угнали, за Пеструшку сердце у меня, родные мои, пуще всего болит!.. Из дому выгнали да вшивых и сопливых туда насадили!.. Все добро, все добро!.. Ну как же теперь быть? Влас Егорыч, научи! Как же быть?
Влас исподлобья взглянул на Устинью Гавриловну и сжал кулаки:
— От меня какая тебе, Устинья Гавриловна, наука? Я тебе не советчик, не помощник. Меня самого скоро вытряхнут из моего добра! Пристают, чтоб я, как все, как общество!.. А я не хочу! Не жалаю я итти в этот их троюпроклятый колхоз!
— Силком гонют! — всхлипнула жена Власа. — Не знай, как и быть!
— Уйду! — зло сказал Влас. — Куды глаза глядят уйду.
Жена заплакала, и, глядя на нее и вспомнив и о своем горе, вновь залилась слезами и Устинья Гавриловна.
— Я кровь проливал за землю за свою, за хозяйство! — пылал Влас, не обращая внимания на слезы женщин. — Я только-только на ноги становиться зачал, а тут конец всему...
— Истинное светопреставление... — сквозь слезы оживилась Устинья Гавриловна. — Правду намеднись батюшка сказывал: действует, мол, грит, каиновы дети! От каинова семени!.. Сказывал, терпеть надо. Бог грит, терпел да и нам велел... А как терьпеть-то? Силов нету! Моченьки не стало! От этакого добра, как у нас-то было, разве успокоишься сердцем? Как подумаю, как подумаю, так скрозь слезами исхожусь!.. Каиново семя! Лодыри, пьяницы и воры! Им отдай все, а они прогулеванят, пропьют! Все прахом пойдет!.. Все, все, Влас Егорыч!..
7
Городской уполномоченный три дня проводил собрание за собранием. Три дня Влас и еще некоторые крестьяне озлобленно и напористо противились вступлению в колхоз, шумели, спорили до хрипоты.
— Силком гоните! Пошто не по добровольному согласию?!
— Незаконно! Нет нашего жаланья! Пущай которые жалающие, ну они записываются, а мы подождем!..
Городской уполномоченный хитро улыбался и ворошил бумажки, разбросанные перед ним на столе:
— Ежели сказано, что сплошная коллективизация, так нужно обществу подчиняться. Тут всем миром за колхоз мужики встают, а вас десять, скажем, хозяйств, и артачитесь вы зря!.. Какое постановление большинства, так и будет. И обязаны подчиниться!.. Ну, одним словом, кончено, товарищи, с этим делом!
— Кончено! Кончено!..
В эти три дня, когда окончательно вырешалась судьба деревни, Влас осунулся, потускнел, замкнулся в себе. Он по-долгу обдумывал что-то наедине, про себя. Он сделался сосредоточенным и угрюмый.
На четвертый день он вернулся домой со сходки, с собрания возбужденный, на что-то решившийся, почти повеселевший. Он обошел свой двор, оглядел скот, полазил по амбарам, сходил на гумно. Ничего не говоря жене, встревоженно и изумленно следившей за ним, он пригляделся ко всему хозяйству, словно оценивал его. А вечером, после паужна, стал крошить на столешнице самосалку. И, сосредоточившись на этой привычной и легкой работе, сказал вдруг Марье:
— Доведется тебе, Марья, похозяйствовать без меня. С ребятами...
— С чего же это? — чуя неладное, встрепенулась жена.
— Уйду я... Пущай не на моих глазах, пущай без меня раззоряют добро!
— А мы как, Егорыч?
— Вы? Коли не оставят в покое, ступайте как все... Продоржитесь[1]...
Власова жена опустилась на лавку и потянула уголок фартука к мокрым глазам.
— Ну, брось слезы! — остановил ее Влас. — Брось!
— Куды ж ты, Егорыч? Куды ты пойдешь? Опять мытариться? Опять горюшка хлебать?!.. Егорыч, не ходил бы!
— Оставь! Молчи!..
В эту ночь Влас долго ворочался без сна. Долго вздыхала женщина. Часто принималась плакать. Все силилась понять мужа и не могла.
Покидая деревню, Влас остановился на опушке леса и поглядел, стараясь охватить взглядом побольше и попрочнее, вдаль. Он посмотрел на обнаженные, мертвые еще поля, на покачивающиеся под ветром деревья. Он поглядел на низко, робко и воровски стелющийся над полями дым и вспомнил слова попа, повторенные Устиньей Гавриловной:
«Каиново семя!»
И он с едкой усмешкой, со злобным удовлетворением подумал:
— Дым-то, как каинова жертва!.. Неугодная!..
Неся с собою злобу на деревню, на новые порядки, злобу за разрушенное хозяйство, за отнятую землю, за все страшное и плохое, что по его убеждению, несет колхоз, Влас взобрался на пригорок и, не оглядываясь, перевалил через него. И деревня, еще вчера родная деревня, скрылась для него. Надолго. Может быть, навсегда...