Жизнь — минуты, годы... - [92]
Когда он сердился, то смех у него получался искусственный и веселая гримаса на лице выглядела так, будто он кого-то передразнивает. Именно так и воспринял его оскал художник и задиристо спросил:
— Ты что?
Продолжить спор им помешал Сидоряк — он взял Волынчука за пуговицу пиджака, потянул к себе и переспросил медленно, со значением:
— С большой буквы, говоришь?
— Это не мои слова… — ответил тот.
Он отвернулся от Сидоряка, отыскивая взглядом, на что бы ему сесть, но, перехватив его взгляд, в кресло-трон уже уселся художник: он тут же принял позу Волынчука — выпятил грудь, втянул голову в плечи и отомстил ему за его оскал елейно-невинным пояснением:
— Престол занят, этакий дворцовый переворот, извини, пожалуйста, Кирилл Данилович…
А Сидоряк продолжил свою мысль, обращаясь ко всем:
— Мы говорим — с большой буквы, чтобы каждый задумался и задал самому себе вопрос: а с какой буквы я?.. Человек я или так, неопределенное существо?
Однако точку в этом разговоре поставил все же упрямый Волынчук:
— Артист.
Это было сказано бесприцельно, и никто не понял, относится сказанное к человеку вообще или только к ним, к актерам. Минутное молчание нарушил Рущак, который во всем умел увидеть неожиданную сторону. Он предложил режиссеру впустить зрителя за опущенный занавес и раскрыть перед ним эти споры — показать жизнь актеров за кулисами.
— Это очень интересно, — ответил режиссер, — увидеть не только актера, действующего по логике своего героя, а человека со всем его миром, стихию жизни в одном слитке: прошлое, настоящее, даже будущее.
«Неплохо, — подумал Антон Петрович, улавливая в чужих мыслях и свои: человек и артист — в одном слитке. — Шлифование, шлифование от колыбели и до могилы позитивного образа Человека великим режиссером, доведение его до той черты мастерского совершенства, которое воспринимается с восхищением на любой сцене самым требовательным зрителем, аплодирующим и восклицающим: чудесно, браво, бис!..»
Вдалеке от этого спора, увлекшего всех, оставались только Сашко и Татьянка.
Было что-то трогательное в этом наивно светлом и тревожном конфликте юных влюбленных. Все, что происходило кругом, их не касалось, потому что первая глубокая любовь подняла их высоко над будничной жизнью. Их жизнь, так же как жизнь всех людей, была не до конца устроена, но она стала такой светлой, что даже грусть оборачивалась счастьем. Все, о чем говорилось в драме-легенде, о чем спорили актеры в перерывах между репетициями, существовало где-то далеко-далеко внизу, у подножия Олимпа, на вершине которого оказалась их молодость.
Сашко укорял себя в душе за неотесанность, не мог простить себе того, что обидел любимую. Сашко называл себя плохим человеком, жестокосердным. Ведь он обидел ту, без которой его мир утрачивал целесообразность, без которой вся жизнь становилась неинтересной. Он смотрел на ее хрупкий стан, на узенькие плечи, на ее девическую грудь, и ему становилось не по себе:
«А что, если и вправду бросит меня!»
Тогда из-под его ног выскользнет тот прекрасный мир, в котором он пребывал последние месяцы.
«А что, если вдруг уйдет?..»
Тогда все, ради чего стоило ходить на репетиции, изучать историю и литературу, готовить себя к жизни, сразу же потускнело бы и можно было бы превратиться в скептика: «Подумаешь, театральный институт!.. Артист! А я тебе, отец, скажу: клоунада. Если хочешь знать, то лучше на факультет физики пойти. Физика — это наука двадцатого века. Физик-атомщик… Или пилот. Дорога в космос. На какую, Татьянка, хочешь звезду? На ту, которая поярче, рядом с Полярной? Пожалуйста! Только один кусочек? Ха-ха-ха, да я тебе отколю половину от нее и привезу в подарок ко дню рождения. А вообще нам не к чему сидеть на земле. Там просторнее! Целина! До меня еще никто там не появлялся, ничья нога не ступала. Все гладкое, блестящее, золотое. Татьянка, не упорствуй, честное слово, да какой там риск, я уже не впервые летаю и — как видишь — жив, здоров…»
Сашко вдруг почувствовал: если сейчас, в этот же миг, не отважится поговорить с отцом, то все пропадет, потому что его счастье висит на волоске. Потом может быть уже поздно! Немедленно, сей же час!
Он направился к отцу, спускавшемуся как раз в партер.
— Отец, — сказал, потупивши взгляд.
— Ну? — насторожился Антон Петрович.
— Я давно хотел сказать… женюсь.
Антон Петрович поглядел на его пышущие жаром щеки, на дрожащие губы и с некоторой иронией спросил:
— Это из какой пьесы?
— Я не шучу. Правда, я женюсь!
— Прямо сейчас, в эту же секунду?
— Не смейтесь, отец.
— Может быть, подождешь хотя бы до конца репетиции?
— Вы со мной, отец, шутки не шутите!
Антон Петрович искренне рассмеялся, отстранил с дороги сына:
— Ну, иди, иди, жених!
— Отец!
— Я сказал — иди… — повторил нестрого отец.
Юноша побежал за кулисы. Татьянка схватила его за локоть, она не узнавала своего Сашка.
Хотя этот разговор между отцом и сыном произошел в партере, без свидетелей, однако каждый, кто видел, как Сашко стремительно побежал за кулисы, понял содержание разговора между отцом и сыном. Режиссер укоризненно покачал головой и, остывая после спора, предложил:
— Хватит, товарищи. Продолжим репетицию. На чем же это мы?.. Давайте со второй картины.

В книгу известного ленинградского писателя Александра Розена вошли произведения о мире и войне, о событиях, свидетелем и участником которых был автор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли рассказы о встречах с людьми искусства, литературы — А. В. Луначарским, Вс. Вишневским, К. С. Станиславским, К. Г. Паустовским, Ле Корбюзье и другими. В рассказах с постскриптумами автор вспоминает самые разные жизненные истории. В одном из них мы знакомимся с приехавшим в послереволюционный Киев деловым американцем, в другом после двадцатилетней разлуки вместе с автором встречаемся с одним из героев его известной повести «В окопах Сталинграда». С доверительной, иногда проникнутой мягким юмором интонацией автор пишет о действительно живших и живущих людях, знаменитых и не знаменитых, и о себе.
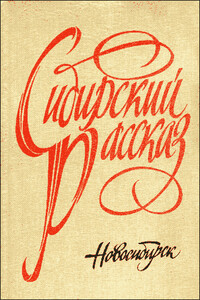
В сборник включены рассказы сибирских писателей В. Астафьева, В. Афонина, В. Мазаева. В. Распутина, В. Сукачева, Л. Треера, В. Хайрюзова, А. Якубовского, а также молодых авторов о людях, живущих и работающих в Сибири, о ее природе. Различны профессии и общественное положение героев этих рассказов, их нравственно-этические установки, но все они привносят свои черточки в коллективный портрет нашего современника, человека деятельного, социально активного.

Во второй том вошли рассказы и повести о скромных и мужественных людях, неразрывно связавших свою жизнь с морем.

В третий том вошли произведения, написанные в 1927–1936 гг.: «Живая вода», «Старый полоз», «Верховод», «Гриф и Граф», «Мелкий собственник», «Сливы, вишни, черешни» и др.Художник П. Пинкисевич.http://ruslit.traumlibrary.net.