Жизнь — минуты, годы... - [26]
— В больших городах процессии запрещены, — послышался чей-то голос.
— В больших городах сжигают, раз — два — и вся церемония.
— Жуть!
(«Народу было мало — у одних не хватало духу присутствовать при таком необычном и жутком обряде, другие были возмущены покойной, может быть, и нечаянно, невольно, но все же дерзко поправшей уставы того общества, к которому она принадлежала по своему древнему и благочестивому роду. На передней скамье сидел муж и несколько самых близких родных — мужчины все в черном и с креповыми цилиндрами на коленях, женщины в глубоком трауре. Церемония совершалась где-то там, за траурным занавесом, который висел в глубине залы, закрывая нечто вроде театральной сцены. И зачем-то между его сдвинутыми черными полотнищами торчало бутафорское подобие золоченого гроба. А на мраморных колоннах по сторонам этих полотнищ пучили глаза изваянные совы. Кроме траурного занавеса, гроба и сов, ничто иное не обозначало зловещего назначения этой пустой залы с окнами чуть не во всю стену.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(…И те прозрачно-розовые, инде горящие ярко-синим огоньком известковые бугры и возвышенности, что были на этом прямоугольнике, это и были скудные остатки нашего друга, всего ее божественного тела, еще позавчера жившего всей полнотой и силой жизни. Больше ничего! Чувствуя на лицах и руках палящий зной от этой адской сковороды, мы стояли и тупо глядели. Асбест рдел, змеился лазурными огоньками… Потом стал медленно бледнеть, блекнуть, приобретать светло-песочный цвет… И тогда я среди его неровностей различил то, что осталось от головы, от наиболее крупных костей, от таза… и еще раз весь содрогнулся от грубости и жестокости всего этого дела и, главное, от кощунственного бесстыдства, с которым мне показали что-то такое, чего никому в мире не должно видеть…»
И. А. Бунин)
— Двести или триста граммов пепла — в них все, что называлось человеком, — сказал с какой-то иронической горечью Иван Иванович. — Двести или триста граммов.
— Прекрасно! — воскликнул Кирилл Михайлович. — Послушайте сенсационную новость: триста граммов пепла влюбились в двести граммов пепла.
— Ах, перестаньте, ради бога, вы — циник, — резко сказала Анна Андреевна. Ей было не по себе от таких разговоров, и внутренняя тревога отражалась на ее красивом лице.
— Циник — это человек, говорящий прямо о разных вещах то, что мы о них думаем втайне.
— Будем продолжать, товарищи, — предложил Семен Иосифович.
Все с явной неохотой возвращались на свои места, а Кирилл Михайлович Волох прямо от пререканий перешел к продолжению своего выступления, прерванного похоронной процессией.
— Мы только что толковали о сожжении и пепле, кое-кто ужасается. А все дело в том, что еще не сложилась традиция, спустя какое-то время все это станет обычным. Вот в чем дело. Не хотим делать лучше только потому, что другие делают так, как издавна повелось, — пусть это плохо, но привычно, и нужна сильная личность, которая осмелится и пойдет против отживших традиций и разного рода пережитков… Смелые люди, новаторы всегда страдают оттого, что поступают не так, как все. Но я вижу, как Семен Иосифович нервничает, он и сейчас еще не может понять, к чему я веду свою мысль.
— Да, да, подтверждаю, не понять. Вы делаете какой-то слишком уж большой круг, а мы привыкли к лаконичности и откровенности.
— Я где-то читал, — продолжал Волох, — какая страшная судьба у птиц альбиносов: родители их не принимают, гонят из своей стаи, несчастные в конце концов гибнут только из-за того, что природа окрасила их перья в другой цвет.
— Думаю, что Василий Петрович сам не согласится, чтобы его приравнивали к альбиносам, — проговорил Иван Иванович. — А относительно традиций… Извините за вклинивание в вашу речь… Неужели вы ратуете за ликвидацию традиционно сложившейся семьи и призываете узаконить вольные браки и свободную любовь? Я так вас понимаю?
— Вы понимаете совсем не так.
— Возможно, — с обидой в голосе сказал Иван Иванович и демонстративно отвернулся от выступавшего.
— А по-моему, Василий Петрович действительно в какой-то степени своеобразный характер, поэтому он и настроил против себя… некоторых! И нам незачем здесь кивать на коллектив. И семья тут тоже ни при чем.
— Вы закончили? — спросил Семен Иосифович.
Волох молча пододвинул к себе свой стул и сел. Анна Андреевна поглядела на Семена Иосифовича и спросила:
— Может быть, сделаем перерыв?
Когда Семен Иосифович объявил о перерыве, все быстро двинулись к двери, шли торопливо, словно давно собирались это сделать, будто их не выпускала закрытая дверь.
вышел последним, все направились в сад, а он задержался во дворе, возле огненных клумб сальвии. Весною вместе с другими коллегами он закладывал эти клумбы, и было по-весеннему очень весело — весна дает людям особенную радость, неповторимую в другие времена года: растут травы, пестреют цветы на прошлогодних клумбах, из ничего — прямо из ничего! — всего лишь оттого, что солнце целует землю, ходит в обнимку с нею под теплым весенним небом. Под теплом солнечных лучей рождается жизнь. Весна — радость обновления, тревога родов и веселые песни крестин. Василий Петрович прошел мимо пламенеющих красных воспоминаний — мимо сальвий — и направился по меже в сад.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
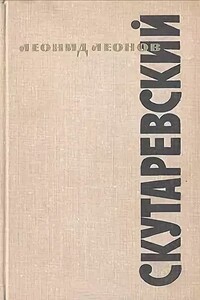
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
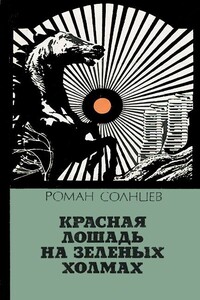
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.