Жизнь Кольцова - [97]
– Тпру! – осадил Зензинов. – Постряли, Васильич! – тревожно поглядел вперед.
Кольцов приподнялся в санях: прямо перед ним, внизу, разбиваемая лунным столбом, чернела вода. Ольховый лесок, отступив от берега, стоял в воде. Смутно виднелись вдалеке воронежские бугры. За ночь река разлилась так далеко, что о переправе нечего было и помышлять.
Зензинов слез с облучка и зачем-то пошел к самой воде. Лошади, словно прислушиваясь, тревожно поводили ушами.
– Варюша, – тихо сказал Кольцов, близко наклонясь к ее лицу, – слышишь, Варюша, река разлилась, ехать некуда… Назад придется, на кордон…
– Вот хорошо-то! – не открывая глаз, сонно сказала Варенька. – Вот хорошо, что на кордон! А я так спать хочу, Алешенька… родненький!
Глава седьмая
Всякий подлец так на меня и лезет: дескать, писаке-то и крылья ощипать.
(Из письма Кольцова Белинскому)
1
Три дня шел лед. Рано утром на четвертые сутки Зензинов поехал верхом в Боровое – поглядеть на реку. Крайние избы села были в воде; река, сердито плеща, разлилась до самого воронежского крутобережья.
Вареньке надоело жить на кордоне. Она вспомнила, что ей нужно побывать у портнихи, где шилось новое платье: ей захотелось и в офицерское собрание, и в театр.
– Да какой же театр, Варюша? – заметил Кольцов. – В великий пост-то?
Варенька капризно поджала губки.
– Все равно, мне тут ужасно надоело! Лес, лучина чадит, мыши ночью в сене пищат. Мы уже пятые сутки как уехали. Небось тетка Лиза в полицию заявила, да и тебя ищут…
Кольцов пошел искать Зензинова. Тот не спеша достал трубочку, закурил и, затянувшись раза два, сказал:
– Что же, Васильич, ехать можно, верхами только. Кабы мы с тобой одни тут были… А Варвара Григорьевна как? Конечно, ждать дороги – месяц еще просидим…
Варенька сказала, что ей все равно, хоть верхом, хоть по воздуху, а она в Воронеже будет.
– Опасно, Варюша, – предупредил Кольцов.
– А наплевать, я отчаянная!
И, схватив Кольцова за руки, закружилась с ним по горнице.
– Ну, тогда вот что, – удерживая ее, сказал Кольцов. – Коли такое дело, то нынче ж в ночь и тронемся. Чтобы до свету в городе быть – понимаешь? А то ежели тебя этакой амазонкой в Воронеже увидят – держись, сплетен не оберешься…
– Представляю! Вот, скажут, Лебедиха Алешку Кольцова с косточками сожрала!
2
Ночь была темная, с порывами мокрого холодного ветра, с низкими плотными тучами, белесыми над головой и черными у горизонта. Деревья в лесу уже не шептались, как в прошлый раз, а глухо и тревожно шумели. Кривой, корявый вяз, перекинув через дорогу обломанные ветром сучья, скрипел, и было похоже, что вяз этот – старик, и все его бросили, а косточки ноют в ненастье, и он кряхтит и жалится прохожим на свою старость и одиночество.
Варенька и Кольцов ехали рядом. В Наташином стареньком полушубке, в сапогах, но в горностаевом капоре с лиловыми лентами, она была необыкновенно мила и, сознавая свою прелесть, радовалась такому забавному маскараду. Алексей вез узел с ее салопом и платьем.
Когда миновали Боровое, Зензинов, ехавший впереди, остановился.
– Слухайте сюды, – сказал он. – Дорога нешуточная будет, не по Дворянской кататься… Я вперед поеду, мой коренник покрепше ваших. Вы же не отставайте. Держать буду напрямки – на Архиерейскую рощу… Ну, отчаянные головушки, господи благослови!
Он тронул своего коренного. Помахивая густой косматой гривой, могучий жеребец вошел в воду. Пристяжные, на которых ехали Варенька и Кольцов, сами, без понукания, только тихонько всхрапывая и поводя ушами, пошли вслед за коренным. Глухо и неприязненно поплескивали черные волны.
восторженно воскликнула Варенька, —
Кольцов потянулся к ней, ласково потрепал по руке и взял повод ее коня.
– Умница! Как Пушкина помнишь!… Сиди крепче в седле, – напомнил шутливо, – не по Дворянской…
– Держитесь, – не оборачиваясь, крикнул Зензинов. – Сейчас поплывем!
Лошади шли по брюхо в воде. Возле большого лохматого куста вода поднялась им по грудь. Рванул ветер. Зензинов что-то крикнул, но ветер отнес его слова в сторону.. Вдруг его жеребец, словно оступясь, провалился по шею и поплыл.
– Держись, Варюша! – закричал Кольцов.
Варенька поджала ноги, но вода залила сапоги. Сердце сжалось от ледяного холода. Усилием воли она подавила крик и лишь тихонько ахнула. Пальцы, вцепившиеся в конскую гриву, онемели, она их не чувствовала.
– Не робей, Варвара Григорьевна! – Зензинов заметил, что Варенькина лошадь немного отстала, и, повернув жеребца, поплыл рядом, свистом понукая притомившуюся пристяжную: – Ну, милушка… Ну, еще чуток!
В самом деле, вода опустилась лошадям по грудь, потом по брюхо, и вскоре лошади, переходя в рысь и обдавая всадников ледяными брызгами, весело зашлепали по мелководью.
– Однова пронес господь! – снял шапку и перекрестился Зензинов. – Теперича еще разок возле Архиерейской рощи занырнем – и, почитай, дома…
Варенька молчала. Полы ее полушубка почернели от воды, с них текло. Алексей слышал, как часто-часто стучат ее зубы.
– Ах, черт! – ударил себя по голове. – Да как же я позволил? Как допустил?!

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.
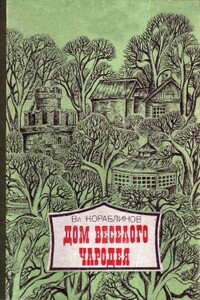
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
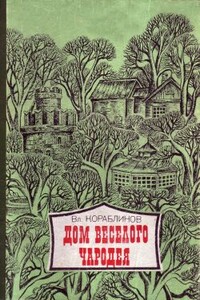
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».
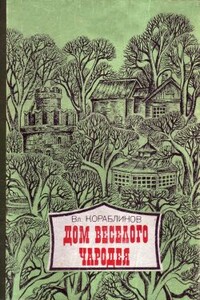
«… Но среди девичьей пестроты одна сразу же привлекла его внимание: скромна, молчалива, и ведь не красавица, а взглянешь – и глаз не оторвешь. Она не ахала, не жеманничала, не докучала просьбами черкнуть в альбом. Как-то завязался разговор о поэзии, девицы восторгались любимыми стихотворцами: были названы имена Бенедиктова, Кукольника, Жуковского.Она сказала:– Некрасов…– Ох, эта Натали! – возмущенно защебетали девицы. – Вечно не как все, с какими-то выдумками… Какая же это поэзия – Некрасов!– Браво! – воскликнул Никитин. – Браво, Наталья Антоновна! Я рад, что наши с вами вкусы совпадают…Она взглянула на него и улыбнулась.
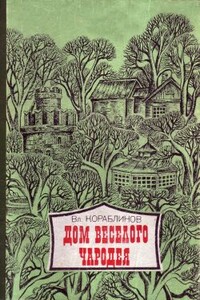
«… Со стародавних времен прижился у нас такой неписаный закон, что гениям все дозволено. Это, мол, личности исключительные, у них и психика особенная, и в силу этой «особенной» психики им и надлежит прощать то, что другим ни в коем случае не прощается.Когда иной раз заспорят на эту тему, то защитники неприкосновенности гениев обязательно приводят в пример анекдоты из жизни разных знаменитых людей. Очень любопытно, что большая часть подобных анекдотов связана с пьяными похождениями знаменитостей или какими-нибудь эксцентричными поступками, зачастую граничащими с обыкновенным хулиганством.И вот мне вспоминается одна простенькая история, в которой, правда, нет гениев в общепринятом смысле, а все обыкновенные люди.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.