Жизнь драмы - [4]
Мне представляется, что выбор таких имен, вместе со всем богатством вызываемых ими ассоциаций, не случаен. Профессора Кирсанова равно возмущают и наглость самозванной спецкомендатуры СА, и видимое безразличие младшего сына к происходящему, то есть он против любых разновидностей нигилизма. Приятель профессора Базарин, вполне в соответствии с образом бывшего остепенившегося «нигилиста», готов приспособиться к ситуации, лишь бы лично ему ничего не угрожало. Страшный, особенно поначалу, Черный Человек в финале оказывается вовсе не провозвестником неумолимого рока, а обыкновенным, слабым человеком.
Кстати, если смотреть на пьесу, как на «Отцов и детей», написанных в конце XX века, то становится понятно, что традиционный этот спор решается Стругацкими все-таки в пользу «детей». Детям безразличны страхи отцов, они не собираются возвращаться в прошлое. Напомню, что пьеса создана в 90 году, когда до попытки реставрации казарменного социализма оставалось около полугода, и выбор поколения «детей» еще не был столь очевиден. Думаю, что в этом залог успеха «Жидов города Питера», чье сценическое воплощение (высшая стадия драматургической эволюции по Эрику Бентли) остается в репертуаре Театра на Малой Бронной и по сей день. Нет ничего приятнее, чем вспоминать о благополучно миновавших нас неприятностях.
Но вернемся теперь к Эрику Бентли и его замечательной книге. К сожалению, поиск во всемирной паутине «Интернет» не дал мне сколь-нибудь исчерпывающих сведений об авторе «Жизни драмы». Известно лишь, что родился он в 1916 году в Англии, но творческая и личная его жизнь была связана с Соединенными Штатами и англо-американской культурой. Исследуемый им предмет известен Бентли не понаслышке, он много работал в различных театрах. Как профессор английской литературы — читал лекции по драматургии, как человек творческий — писал инсценировки и занимался переводами пьес, как теоретик — занимался изысканиями в излюбленной области.
Чтобы проиллюстрировать основное направление театроведческой деятельности Эрика Бентли, определившее не только творческую, но и личную его судьбу, позволю себе обширную цитату из статьи Д. Урнова «Апология театра».
«Когда Эрик Бентли говорит о серьезном театре, понятие это не нужно брать в кавычки, как приходится делать во многих других случаях, при одностороннем взгляде на творческую «серьезность». Для Эрика Бентли — именно в силу того, что и прошлое театра он прекрасно знает и связан с его живой жизнью, — никакие отдельные признаки, никакие благие намерения серьезности еще не гарантируют. К одной из своих книг он взял эпиграфом слова старого французского драматурга Франсуа Сарсэ: «В театре всякая идея живет только в драматической форме». Бентли также верит в живую, получившую цельное воплощение идею, и ни замкнутый суд знатоков, ни сложность драматургической конструкции для него еще не серьезность. Эрик Бентли был близким свидетелем поистине «тяжелых времен» для театра, когда, например, в Англии и выдающиеся мастера, вступившие в пору расцвета и зрелости, не в силах были заставить более или менее широкую аудиторию смотреть на сцену. Подобно гамлетовским «городским трагикам», которых из города на гастроли вынудили отправиться «новшества», а проще говоря, жестокий театральный кризис и конкуренция, Эрик Бентли отправился за океан, стремясь найти там широкую театральную аудиторию и новые возможности. Бродвей разочаровал его в принципе, хотя и не зачеркнул вовсе достижений коммерческого театра с его энергией, предприимчивостью, оперативными точными ответами на зрительские запросы. Эрик Бентли был с теми, кто не хотел принимать одно за другое, эрзац вместо подлинности».
Этим требованием серьезности или — как я уже писал выше — совершенства пронизана вся книга. Бентли подчеркнуто объективен, хотя и не беспристрастен. Рассмотрим небольшую главку под совсем не академическим названием «Спор литературы с театром».
В ней автор «Жизни драмы» задается вопросом: «Является ли пьеса законченным целым без ее представления на сцене?» А ведь в самом деле, существует ли драматическое произведение как полноценное литературное? Пьесы для чтения не в счет. Не очень даже понятно, зачем нужны такие пьесы. Если пьеса — то почему только для чтения, а если для чтения — то почему пьеса, а не, скажем, новелла или повесть? С другой стороны, пьесы, написанные Шекспиром, Мольером, Чеховым, можно и нужно читать и перечитывать. Это не просто самоценные произведения, но абсолютная классика, чье существование уже не зависит от капризов литературной и театральной моды. Как явление изящной словесности, пьеса не нуждается в постановке, но как литературный «материал» для сцены — она немыслима в иной ипостаси. Те, кто не осознают этой извечной двойственности драматургии, может быть, искренне, но горько заблуждаются. Бентли пишет об этом так: «Приверженцы театра страдают ограниченностью как истолкователи литературы. Приверженцы литературы страдают ограниченностью как интерпретаторы театра. И призывает нас «уяснить себе различие между текстом как таковым и текстом в сценическом его воплощении…»»

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.
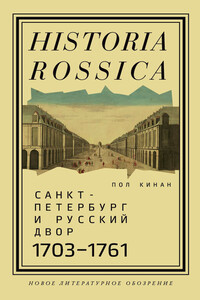
Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».
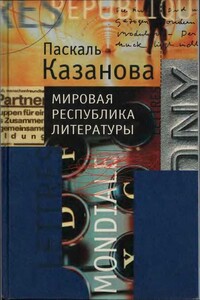
Паскаль Казанова предлагает принципиально новый взгляд на литературу как на единое, развивающееся во времени литературное пространство, со своими «центрами» и периферийными территориями, «столицами» и «окраинами», не всегда совпадающими с политической картой мира. Анализу подвергаются не столько творчество отдельных писателей или направлений, сколько модели их вхождения в мировую литературную элиту. Автор рассматривает процессы накопления литературного «капитала», приводит примеры идентификации национальных («больших» и «малых») литератур в глобальной структуре. Книга привлекает многообразием авторских имен (Джойс, Кафка, Фолкнер, Беккет, Ибсен, Мишо, Достоевский, Набоков и т. д.), дающих представление о национальных культурных пространствах в контексте вненациональной, мировой литературы. Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Projet» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия и Института «Открытое общество» — Будапешт.
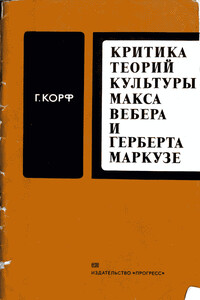
Аннотация издательства: «Книга представляет собой критический очерк взглядов двух известных буржуазных идеологов, стихийно отразивших в своих концепциях культуры духовный кризис капиталистического общества. Г. Корф прослеживает истоки концепции «прогрессирующей рационализации» М. Вебера и «критической теории» Г. Маркузе, вскрывая субъективистский характер критики капитализма, подмену научного анализа метафорами, неисторичность подхода, ограничивающегося поверхностью явлений (отрицание общественно-исторической закономерности, невнимание к вопросу о характере способа производства и т.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".
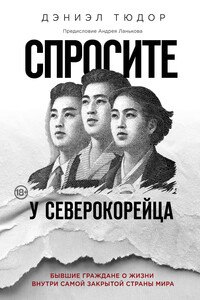
Дэниэл Тюдор работал в Корее корреспондентом и прожил в Сеуле несколько лет. В этой книге он описывает настоящую жизнь северокорейцев и приоткрывает завесу над одной из самых таинственных стран мира. Прочитав эту книгу, вы удивитесь тому, какими разными могут быть человеческие ценности.
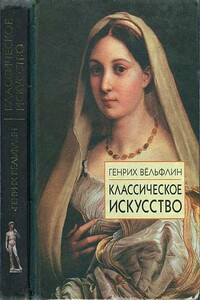
Генрих Вёльфлин по праву считается одним из самых известных и авторитетных историков искусства, основоположником формально-стилистического метода в искусствознании, успешно применяемом в настоящее время. Его капитальный труд «Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение» впервые был издан в Мюнхене в 1899 году, выдержал много переизданий и переведен на все европейские языки. Первый перевод на русский язык был выполнен в 1912 году. Предлагаемый новый перевод более соответствует немецкому оригиналу и состоянию современной искусствоведческой науки.
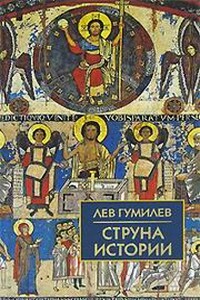
Лев Гумилев принадлежал к редкой в современной науке категории подлинных энциклопедистов. Масштаб его знаний и мыслей не вмещался в узкие рамки советской истории. Он работал на грани нескольких наук — истории, философии, географии, этнографии, психологии — и обладал необычайной интуицией и способностью к интеграции наук. Это позволило ученому создать оригинальную пассионарную теорию этногенеза, актуальность которой год от года возрастает.При этом Гумилев не был кабинетным ученым, — он был великолепным лектором.
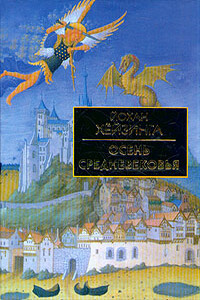
Книга нидерландского историка культуры Йохана Хейзинги, впервые вышедшая в свет в 1919 г., выдержала на родине уже более двух десятков изданий, была переведена на многие языки и стала выдающимся культурным явлением ХХ века. В России выходит третьим, исправленным изданием с подробным научным аппаратом."Осень Средневековья" рассматривает социокультурный феномен позднего Средневековья с подробной характеристикой придворного, рыцарского и церковного обихода, жизни всех слоев общества. Источниками послужили литературные и художественные произведения бургундских авторов XIV-XV вв., религиозные трактаты, фольклор и документы эпохи.