Жизнь драмы - [3]
В жанре фантастического гротеска создано и несколько пьес Григория Горина. Достаточно вспомнить «Дом, который построил Свифт» и «Тот самый Мюнхгаузен». В этих пьесах (так же как и в их сценарных воплощениях) причудливо сочетаются действительные события и авторский вымысел. Биографии вполне реальных исторических личностей переплетаются с «подробностями» жизнеописаний литературных персонажей. И все это сдобрено неподражаемым юмором, глубокими философскими сентенциями, стремительным развитием сюжета. Для моего поколения слова горинского Мюнхгаузена: «Дело не в том, летал Мюнхгаузен или не летал, а в том, что не врет», стали своеобразным девизом — вызовом официальному вранью.
И, тем не менее, фантастическая пьеса в современном театре редкость. Кинематограф, особенно американский, практически вытеснил фантастику со сцены. И не удивительно. Во-первых, профессиональные драматурги не считают фантастику литературой (вернее, считают ее низкопробным чтивом для инфантильных идиотов), а следовательно, не знают ни ее законов, ни возможностей. Во- вторых, нынешние фантасты не пишут оригинальных пьес, скорее всего, потому, что не видят возможностей для их постановки. В-третьих, существуют вполне объективные трудности с реализацией фантастики на сцене. Примером, не особенно успешной борьбы с этими трудностями, может служить инсценировка «Мастера и Маргариты», поставленная в знаменитом Театре на Таганке. Не спорю, спектакль прекрасный. Вот уже много лет он пользуется заслуженным успехом у зрителя (что лишний раз свидетельствует в пользу сценической фантастики), но, на мой взгляд, чудеса, которыми так насыщен шедевр Булгакова, показаны неубедительно. Обидно, когда столь интересный спектакль держится только за счет актерской игры и значительности литературного первоисточника.
Мне могут возразить, что на сцене не воспроизвести кинематографические спецэффекты. Но ведь и не надо! Мировая сценография накопила огромный опыт по части эффектов театральных. Еще в начале XX века на сценах парижских театров с огромным успехом шла инсценировка романа Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней». На глазах зрителя герои совершали кругосветное путешествие на всех видах тогдашнего транспорта, включая живого(!) слона. Этот спектакль, кстати, видели многие русские туристы тех лет и отзывались о нем с восторгом. Российские театры, тем более современные, гораздо беднее парижских и вряд ли способны разориться на живого слона. Однако на дворе сейчас уже XXI век, и технические возможности театра возросли во много раз. Так дайте же зрителю умное, эффектное, захватывающее зрелище!
Мне, как человеку, имеющему некоторое отношение к словесному творчеству, особенно приятно, когда в основе спектакля лежат произведения, написанные моими любимыми авторами. С огромным удовольствием смотрю я в театре русскую и иностранную драматургическую классику, и с не меньшим интересом — пьесы современных авторов. Поэтому в полном соответствии с «нелинейной логикой» этих, несколько сумбурных, записок я хотел бы поговорить о пьесе братьев Стругацких «Жиды города Питера».
У знатоков и ценителей драматургии такой выбор может вызвать недоумение. Как будто на свете мало других замечательных пьес? Чтобы предупредить взрыв благородного негодования, постараюсь обосновать свой выбор. Во-первых, эту пьесу я не только читал, но и смотрел в Театре на Малой Бронной в прекрасной постановке Льва Дурова; во-вторых, потому, что питаю слабость к хорошей и умной фантастике, а в-третьих, пьеса просто пронизана литературными реминисценциями.
Написанные в самом начале 90-х «Жиды города Питера, или Невеселые беседы при свечах» (таково полное название пьесы) оказались произведением воистину пророческим. Буквально через несколько месяцев после того как она была закончена, в стране грянул путч. Само название пьесы имеет вполне определенный исторический контекст. Дело в том, что во время оккупации Киева со слов «Жиды города Киева» начинались «официальные обращения» новоявленных властей к еврейскому населению. Кстати, во время постановки пьесы в одном из киевских театров она получила именно такое название, что послужило нелишним напоминанием о не столь уж и отдаленном прошлом. Собственно, о прошлом, которое держит будущее за горло, и написана эта пьеса, ведь недаром ей предпослан эпиграф из Акутагавы: «Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами».
О литературном «происхождении» «Жидов города Питера» свидетельствуют, прежде всего, фамилии главных героев: Кирсанов, и Базарин, и таинственный Черный Человек. Профессор Кирсанов — это, конечно же, «рослый, склонный к полноте, украшенный кудрявой русой шевелюрой и бородищей, с подчеркнуто-величавыми манерами потомственного барина» русский интеллигент. А Базарин напоминает своего литературного прототипа лишь отдаленно. Хотя кто знает, быть может, тургеневский нигилист Базаров, доживи он до столь почтенного возраста, и образумился бы, и о нем вполне можно было бы сказать, что он «толстый, добродушнейшего вида, плешивый, по сторонам плеши — серебристый генеральский бобрик». Черный Человек — он и есть черный человек: таинственный заказчик «Реквиема» в «Моцарте и Сольере» А. С. Пушкина и мучитель лирического героя С. А. Есенина из одноименной поэмы.

Есть события, явления и люди, которые всегда и у всех вызывают жгучий интерес. Таковы герои этой книги. Ибо трудно найти человека, никогда не слыхавшего о предсказаниях Нострадамуса или о легендарном родоначальнике всех вампиров Дракуле, или о том, что Шекспир не сам писал свои произведения. И это далеко не все загадки эпохи Возрождения. Ведь именно в этот период творил непостижимый Леонардо; на это же время припадает необъяснимое на первый взгляд падение могущественных империй ацтеков и инков под натиском горстки авантюристов.

Издание представляет собой сборник научных трудов коллектива авторов. В него включены статьи по теории и методологии изучения культурогенеза и культурного наследия, по исторической феноменологии культурного наследия. Сборник адресован культурологам, философам, историкам, искусствоведам и всем, кто интересуется проблемами изучения культуры.Издание подготовлено на кафедре теории и истории культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и подводит итоги работы теоретического семинара аспирантов кафедры за 2008 – 2009 годы.Посвящается 80-летнему юбилею академика РАЕН доктора исторических наук Вадима Михайловича Массона.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.

Автор, на основании исторических источников, рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия. Читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Данилевского, Загоскина, Лермонтова, Ростопчиной, Баратынского, Бунина, Куприна, Гоголя и др. побывать на балах XVIII–XX столетий.Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Издание является первым полным русским переводом двух книг выдающегося американского литературоведа Хэролда Блума, представляющих собой изложение оснований созданной им теории поэзии, в соответствии с которой развитие поэзии происходит вследствие борьбы поэтов со своими предшественниками.
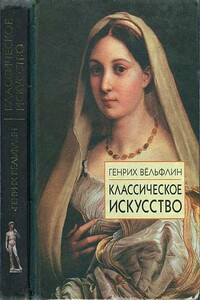
Генрих Вёльфлин по праву считается одним из самых известных и авторитетных историков искусства, основоположником формально-стилистического метода в искусствознании, успешно применяемом в настоящее время. Его капитальный труд «Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение» впервые был издан в Мюнхене в 1899 году, выдержал много переизданий и переведен на все европейские языки. Первый перевод на русский язык был выполнен в 1912 году. Предлагаемый новый перевод более соответствует немецкому оригиналу и состоянию современной искусствоведческой науки.
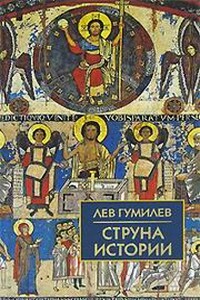
Лев Гумилев принадлежал к редкой в современной науке категории подлинных энциклопедистов. Масштаб его знаний и мыслей не вмещался в узкие рамки советской истории. Он работал на грани нескольких наук — истории, философии, географии, этнографии, психологии — и обладал необычайной интуицией и способностью к интеграции наук. Это позволило ученому создать оригинальную пассионарную теорию этногенеза, актуальность которой год от года возрастает.При этом Гумилев не был кабинетным ученым, — он был великолепным лектором.
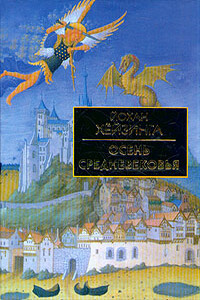
Книга нидерландского историка культуры Йохана Хейзинги, впервые вышедшая в свет в 1919 г., выдержала на родине уже более двух десятков изданий, была переведена на многие языки и стала выдающимся культурным явлением ХХ века. В России выходит третьим, исправленным изданием с подробным научным аппаратом."Осень Средневековья" рассматривает социокультурный феномен позднего Средневековья с подробной характеристикой придворного, рыцарского и церковного обихода, жизни всех слоев общества. Источниками послужили литературные и художественные произведения бургундских авторов XIV-XV вв., религиозные трактаты, фольклор и документы эпохи.