Жестяной пожарный - [19]
Позванивая бубном, Шура Шишкина удивительно чисто с нарочитой кое-где хрипотцой запела песню о последнем в России цыганском таборе и о любви, которая и смерти не по зубам. Голос певицы, казалось, лился не из ее горла, а из моего сердца. Наклонившись ко мне, Жеф переводил слова песни, и мне чудилось, что не о кочевом цыгане поет эта Шура, а обо мне самом… А потом она рывком, словно бы освобождаясь от задумчивой грусти, передернула плечами, тряхнула подолом пышной, многоярусной, до самого пола юбки и, по-плясовому притопывая, запела совсем про другое: «Эх, раз, еще раз, еще много-много раз!» И меня потянуло сейчас же, немедленно отпихнуть стол, вскочить на ноги и в полнейшем упоении последовать этому «Эх, раз, еще раз!..» Кессель наблюдал за моей реакцией с большим одобрением.
Но и это еще был не конец праздника. Обведя зал плавным движением беломраморной руки, Шура Шишкина, глядя прямо на наш столик, а точнее, на моего друга Жозефа, ударила в бубен, позвенела бляшками и запела во весь свой сильный, без изъянов и заусениц голос: «К нам приехал наш любимый, Есиф Шмульич дорогой!»
Посетители «Кавказского замка» уставились на почетного гостя; Кессель был тронут и улыбался без тени смущения.
– Пей до дна, пей до дна, пей до дна! – заливалась Шура Шишкина.
Жеф налил чачу в рюмки, чокнулся со мной и поднял руку со стопкой по направлению к концертному кругу, к Шуре. Певица увидела и улыбнулась благодарно.
– Русский человек в ресторане хочет танцевать, – поставив опорожненную стопку на стол, сказал Жеф. – Без танцев ресторан не ресторан, а какое-то бистро: ни два ни полтора… Ты хочешь танцевать?
– Хочу, – сказал я. – Танцевать люблю.
– Значит, ты из наших! – сделал заключение Жеф Кессель.
Мне было не совсем понятно: из наших – это каких? Русских или евреев?
– Цыгане закончат, и сразу начнутся танцы.
– А музыка? – спросил я. – Играть кто будет?
– Цыгане отсюда пойдут в «Царевича» петь, – со знанием дела сказал Жеф, – а из «Царевича» придет оркестр: саксофон, скрипка, гитара и тарелки. А пианино тут свое есть, вон стоит в углу.
Но до ухода цыган и начала танцев для всех публику ожидал еще один аттракцион, о котором по русскому Парижу ходили легенды. Единственным и главным действующим лицом этого спектакля был Жозеф Кессель, самый неординарный сочинитель на цветочном лугу французской литературы. Разве что Франсуа Вийон мог бы с ним сравниться.
Как только цыгане откланялись и опустела площадка посреди зала, Жеф, с порожним бокалом для шампанского в руке, поднялся из-за стола. Публика не спускала глаз с моего друга, смотрела зачарованно. Понимая, что всех нас ждет необычайное представление, я застыл и окаменел, как жена Лота, превратившаяся в соляной столб в тот роковой момент.
А Кессель, выпростав руку из рукава, с размаху ударил себя шампанским бокалом по голове. Густая небрежная шевелюра уберегла его от ранений, но бокал раскололся на части, в целости осталась одна только ножка. Жеф выбрал на ощупь два крупных обломка, тряхнул головой, избавляясь от мелких осколков, и обвел онемевший зал взыскательным взглядом. Убедившись в готовности публики к предстоящему зрелищу, он не спеша сунул стекляшки в рот и принялся жевать с хрустом. Когда хруст прекратился и стекло превратилось в пыль, Жеф проглотил ее вместе с глотком воды. Закончив, Кессель небрежно кивнул залу, опустился на стул рядом со мной и спросил:
– Ну как?
Я молчал, не зная, что сказать.
– Попробуй где-нибудь в «Максиме» съесть фужер, – сказал Жеф, – тебя сразу в полицию поведут. И не потому, что им там посуду жалко – можно ведь заранее за бокал заплатить, – или они боятся, что ты ненормальный, сейчас начнешь на клиентов кидаться и репутацию заведения испортишь непоправимо. Не поэтому! А потому, что у наших русских не как у всех остальных людей: у них другой взгляд на небеса. Говорят же: «Что русскому здо́рово, то немцу карачун». И тут немец совсем не германец, тут бери шире: любой, кто по-русски не говорит, тот и есть немец.
Зал тем временем пришел в себя и оправился от шока; раздались аплодисменты, некоторые восторженные посетители с энтузиазмом кричали «браво!».
– Вот видишь, – продолжал Жеф, – ты только представь себе, что здравые французы станут кричать «браво!» едоку стекла. Не представляешь? То-то и оно…
Представить такое действительно было непросто. Мой покойный папа́, да и мама́, я уверен, никогда бы этого себе не позволили. Да и братья – отважный авиатор Франсуа и клерикал Анри – скорее возмутились бы бесцельным жеванием стеклянного бокала, чем восхитились. И мои бывшие сотоварищи по морскому училищу и офицерскому корпусу – а некоторые из них были отчаянные ребята – не оценили бы остроты положения, сплюнули бы наземь и мимо прошли.
А русские восторгаются и аплодируют! И это указывает на непосредственность их характера и эмоциональную открытость, что и мне присуще и дорого.
Откровенно говоря, я тогда так и не понял, шутил ли Жеф, говоря о различиях между русскими и другими людьми, или говорил серьезно. Но если особенный «взгляд в небо» характерен для всего русского мира, к которому Кессель приобщал меня в «Кавказском замке», то этот отличный от других загадочный мир приоткрывался передо мною привлекательным и неоднозначным. Цыгане и лезгинка являлись его украшением, жевание стекла – диковиной. В недрах загадочного понятия «русский мир» дымились и клубились идеи, к которым меня по-своему тянуло и которые мне хотелось постичь. Этот многомиллионный мир, раскинувшийся на огромной территории, оказывал, помимо нашей воли, существенное влияние на судьбы Европы и хотя бы поэтому подлежал внимательному исследованию. И делать это нужно было не только извне, но и, по мере возможностей, изнутри. Жозеф Кессель, русский еврей, балансировал на грани между двумя мирами; с этой позиции многое ему было куда видней, чем мне.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Да или нет?» — всего три слова стояло в записке, привязанной к ноге упавшего на балкон почтового голубя, но цепочка событий, потянувшаяся за этим эпизодом, развернулась в обжигающую историю любви, пронесенной через два поколения. «Голубь и Мальчик» — новая встреча русских читателей с творчеством замечательного израильского писателя Меира Шалева, уже знакомого им по романам «В доме своем в пустыне…», «Русский роман», «Эсав».

Маленький комментарий. Около года назад одна из учениц Лейкина — Маша Ордынская, писавшая доселе исключительно в рифму, побывала в Москве на фестивале малой прозы (в качестве зрителя). Очевидец (С.Криницын) рассказывает, что из зала она вышла с несколько странным выражением лица и с фразой: «Я что ли так не могу?..» А через пару дней принесла в подоле рассказик. Этот самый.

Повесть лауреата Независимой литературной премии «Дебют» С. Красильникова в номинации «Крупная проза» за 2008 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
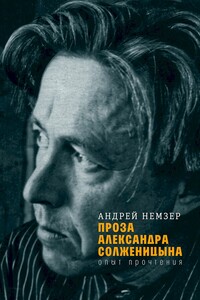
При глубинном смысловом единстве проза Александра Солженицына (1918–2008) отличается удивительным поэтическим разнообразием. Это почувствовали в начале 1960-х годов читатели первых опубликованных рассказов нежданно явившегося великого, по-настоящему нового писателя: за «Одним днем Ивана Денисовича» последовали решительно несхожие с ним «Случай на станции Кочетовка» и «Матрёнин двор». Всякий раз новые художественные решения были явлены романом «В круге первом» и повестью «Раковый корпус», «крохотками» и «опытом художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ».

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)
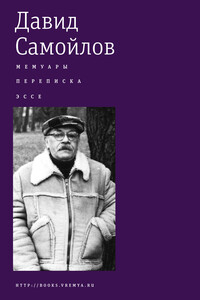
Книга «Давид Самойлов. Мемуары. Переписка. Эссе» продолжает серию изданных «Временем» книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году («Поденные записи» в двух томах, «Памятные записки», «Книга о русской рифме», «Поэмы», «Мне выпало всё», «Счастье ремесла», «Из детства»). Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, «глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает». Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками.

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.