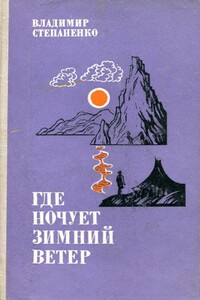. Вместе с другими он волновался и ликовал, заранее радуясь несомненной победе, когда в день выборов городского головы в зал городской думы неожиданно вошел Илья Чавчавадзе, медленно, степенно прошествовал к креслу наблюдателя и величественно опустился в него. И так же, как другие, он окончательно убедился, что Аджария навеки вернулась в лоно матери-родины, когда первый ребенок из грузин-мусульман появился во дворе школы Общества распространения грамотности, робко прижимая к груди курицу, принесенную в подарок учителю, и, чтобы скрыть или преодолеть свою застенчивость, подбросил ее высоко в воздух. Но ничто не могло сравниться с той роковой, ошеломляющей минутой, когда он впервые осознал, что влюблен, и что не кто иной, как Нато, тринадцатилетняя девочка, — предмет его всепоглощающего чувства, источник испепеляющей страсти, греза его души, тайное тайных его сердца, поводырь его дум, воплощенный свет, нерушимая чистота, непорочная юность, сияние, открывающее незрячий глаз, и музыка, отмыкающая глухое ухо, возрождение достоинства, крови, рода, самосознания, начало всех начал, путь из Египта, маяк для сбившихся с дороги и в то же время — гнев господень, проклятие и погибель, потоп и конец света, ибо что там ни говори, а Нато могла быть ему скорее внучкой, нежели возлюбленной или хотя бы музой; и, обнаружив свою любовь, он подвергся бы позору не меньшему, чем тот, который постиг его, который он испытал и перенес (если только можно сказать — перенес) здесь же, в этом доме, где сейчас свила гнездо его непостижимая, неслыханная, немыслимая, непозволительная, постыдная, преступная, проклятая любовь, любовь, за которую его стоило предать любой казни — вздернуть на виселицу, сжечь на костре, побить камнями. Разумеется, никогда, ни одной живой душе, и прежде всего самой Нато, он не решился бы открыть свою любовь, но и жить без этого сжигающего чувства, помимо этого чувства он уже не мог; он был как бы прикреплен к этому чувству, висел на нем, как плод на ветке, как вся его жизнь вообще висела на волоске. Это чувство позволяло ему забыть о позорном прошлом и порождало в нем крохотную надежду, что он не исчезнет из мира без следа, так как он хоть и односторонне, одной несдвоенной ниткой, но был уже навеки связан с завтрашним днем, с будущим, поскольку Нато была прежде всего именно воплощением завтрашнего дня, будущего, а не обычным земным созданием; и любовь к Нато была в первую очередь любовью к будущему, к завтрашнему дню, а не к женщине. Эта любовь связывала его хотя бы символически с грядущим, а не с женщиной, музой его поэзии. Вот в чем было дело. Более того — только эта любовь и давала ему силу и способность вновь ощутить себя листком на родном дереве — слитым с ним, выросшим из него листком, — а не прикреплять себя к дереву наподобие декоративного, искусственного листка, колышками надежды и проволокой упрямства, как он это делал до сих пор. Любовь не просто позволяла ему воссоединиться с родимым деревом, но сразу умерила в нем чувство отчуждения, все еще гнездившееся в глубине его души и сознания. И, главное, любовь эта возвращала его в детство, к тому девятилетнему мальчику, к ощущению тепла, исходящего от матери или от той единственной женщины, которая была его матерью когда-то, до того, как забыла о своем материнстве и, из подражания никчемным примерам, променяла сына на курсанта военного училища, а сама превратилась в обсыпанную пудрой и возбужденную ликерами жеманницу, которую одна лишь корысть связывала с тем, кому следовало быть для нее только сыном, а не источником «красивой жизни». Образ Нато прежде всего вытеснял из его жизни эту жеманницу и сам занимал ее место, как символ матери и дочери одновременно, как слитые в единой сути вечная мать и вечная дочь, жизнь и любовь, красота и добро. Вот чем была для него Нато. Но этот образ, этот символ, был создан его чувством, его сознанием, и никто, кроме него, не воспринимал так всего того, что с ним происходило; любой другой человек счел бы овладевшую им кощунственную страсть безумием, развратом или тяжкой болезнью. Нато была религией единственного человека, а он — единственным адептом этой религии. Вот почему он тщательно скрывал свою любовь. Не страх и не стыд говорили в нем, а лишь нежелание, чтобы кто-нибудь неверно истолковал и унизил, замарал то, что видел в неверном свете и не способен был понять. Он не питал никаких порочных надежд, не имел любострастных вожделений или намерений, да и не мог их иметь по отношению к тринадцатилетней девочке, хотя когда он сочинял очередное стихотворение, то вырывался из земного пространства и времени, витал где-то в заоблачных, сверхдуховных сферах, и тогда сразу исчезали все разделявшие его и Нато барьеры, которых в этой земной жизни было более чем достаточно и пренебрегать которыми было бы с его стороны, мягко говоря, истинным неразумием, попросту глупостью. Но там, в тех сферах, по ту сторону души, Нато была окружена ореолом Лауры и Беатриче и смело занимала место в одном ряду с ними, бок о бок с божествами, возникшими в недрах чистых и благородных душ великих поэтов, созданиями мечты и надежды — божествами, над которыми не властно время и которые остаются одинаковыми в возрасте тринадцати, ста тринадцати, тысячи тринадцати или десяти тысяч тринадцати лет. Так думал Саба, потому что только так мог оправдать свою любовь хотя бы перед самим собой. А искать оправданий он был обязан, потому что не мог отвергнуть эту любовь, не мог убежать от чувства, для которого не существует ни законов, ни границ, — оно само устанавливает законы, словно старейшина рода, и само определяет свои границы, словно могущественное государство. Саба уже больше ни о чем, кроме своей любви, не мог думать. Он сидел взаперти в своей комнате и как бы даже не слышал непрерывных паровозных гудков: жил он неподалеку от товарной станции, вернее — там он снимал сперва комнату для своей овдовевшей матери, а после ее смерти и переселился туда, уже навсегда, сам. До этого же он, собственно, нигде постоянно не квартировал — то ночевал у матери, то оставался на ночь в казарме. Долгого общения с матерью он не выдерживал, но и совсем без нее не мог обходиться. Рядом с матерью он вспоминал свое загубленное детство и переполнялся горечью; а в казарме мучился от своей бессердечности и бессовестности и ругал себя за то, что забросил мать, хотя не любил и не ненавидел ее, а лишь признавал себя «обязанным» ей и считал своим долгом оказывать ей почтение хотя бы как вдове своего отца; к тому же существование матери являлось наглядным подтверждением того, что он когда-то был совсем другим человеком, — правда, всего в течение девяти лет, но и этого было достаточно, чтобы не терять надежды когда-нибудь отыскать в подвалах своей души тогдашнего девятилетнего ребенка и воспитать его на этот раз по своему разумению, а не так, как считала правильным его мать. А сверх того, мать была единственным человеческим существом, с которым он мог говорить о своей любви, — правда, лишь намеками, завуалированно, обиняками, но даже и это доставляло ему некоторое облегчение и удовольствие. Но главное — здесь, у матери, он свободно мог заниматься сочинением стихов, не то что в казарме, где всякого, кто попался кому-нибудь на глаза с пером в руке, задушили бы вопросами: что он пишет — прошение, жалобу или донос… А мать не смела даже заговорить с сыном, когда он сидел над листом бумаги, потому что верила только бумаге и почитала только бумагу. И притом не вполне без основания: «бумага» сделала ее дворянкой, дала образование ее сыну и приобщила ее к «красивой жизни». В ту пору, когда она еще жила в деревне, при любом недоразумении с соседями, стоило ей, подбоченясь, крикнуть: «А у меня бумага есть!» — как сосед или соседка тотчас же сдавались и, разводя руками, бормотали: «Ну, значит, ваша власть и ваша сила». И поэтому писания сына она сохраняла так же бережно, как сфабрикованную дворянскую грамоту. Разбросанные по полу листки — осыпавшиеся, как пепел, с опаленного огнем поэзии офицера — она подбирала благодарно и благоговейно, как древний еврей манну небесную; все она могла выбросить, обречь на уничтожение (да многое и выбросила), но не бумажный листок; не отличала ситца от парчи, а гербовую бумагу распознала бы, не задумываясь, среди тысячи других бумаг. И хоть не знала грамоты, но ни за что не поверила бы, что на бумаге может быть написан вздор, как это иногда говорил со смехом ее сын. Разве не бумага сделала ее благородной? Бумага понуждала ее пудриться, налегать на ликеры, часами сидеть перед зеркалом и повязывать то так, то этак на голову подаренный сыном, «береженный пуще глаза» платок, хотя ей и не нужно было никуда идти, а если бы и понадобилось, то она разве что под дулом ружья согласилась бы выйти на двор, такой испытывала смертельный страх перед пыхтящими, ревущими паровозами. И все же она не сдавалась, не жалела о брошенном, разрушенном сельском очаге и была вполне довольна своей «красивой жизнью». А у сына глупость матери вызывала горькую усмешку, но притом и успокаивала его, так как все же утешительно было сознавать себя жертвой всего лишь глупости, а не расчета и умысла. Глупость хотя и не оправдывала, но объясняла то преступление, которое совершила мать по отношению к своему сыну. Нехозяйственная, неряшливая она была женщина (дворянка, сударь мой, дворянка!); комната ее пропылилась насквозь; она лишь слегка стряхивала пыль около того места, где сидела, — а что делалось вокруг, не замечала, да и не интересовалась. Заложив ногу на ногу, она сидела и любовалась своими красивыми домашними туфлями — зелеными с красными помпонами, купленными по случаю у соседки; она и на улице щеголяла бы в них, если бы вообще выходила на улицу. Да, да, она была дворянкой, любила красивую жизнь и была своей жизнью весьма довольна. «Муж мой рано умер, так я и его долей счастья попользуюсь», — говорила она в шутку, а по сути дела — и не в шутку, выпуская изо рта табачный дым (первое, о чем она спрашивала вошедшего сына, это — не забыл ли он купить папирос, хотя курить по-настоящему не умела, и если затягивалась, то задыхалась от кашля) и потягивая из рюмочки ликер. Особенно любила она французские ликеры — бенедиктин и шартрез. «Вкусно как — лучше не придумаешь!» — говорила она, причмокивая губами. А сын бесился в душе; он был уверен, что и отца его сжила со света глупость жены: на все махнул рукой бедняга, на сына, на дом с хозяйством, и поспешно, без сопротивления отдался в руки смерти, как сдается врагу истомленный бессмысленной войной солдат. Но мать все-таки оставалась матерью — он терпел, молчал, а то, что рвалось с языка, записывал на листках и тем отводил душу. Если бы мать его умела читать, то не хранила бы бережно, а в безмерной ярости рвала бы на мелкие клочки эти исписанные им листки. «Не подавитесь ликером, не заболейте с непривычки, сударыня!», «Не пудритесь так безбожно, не то уведут вас в Железный театр и вытащат на сцену», «Смотрите не потеряйте помпоны от шлепанцев», — строчил сын и убегал в казарму, чтобы не засмеяться в лицо матери, усердно подбиравшей рассыпанные по полу листки и торжественно прятавшей их в шкатулке вместе с дворянской грамотой. Но вскоре бедняжка сломилась, подалась, стала слабеть. Все жаловалась на холод. В знойные летние дни не гасила керосинки. Поставив ее между тощими, посинелыми икрами и нагнувшись над нею, сидела часами, ни о чем не думая, нахохлясь, как курица под дождем. «Почему не женишься?» — спрашивала порой вскользь, без особого интереса, и трудно было сказать, заботилась ли она о будущности сына или просто хотела заполучить невестку, чтобы та ухаживала за ней. «А знаешь ли ты, сколько мне лет?» — спрашивал в ответ сын. «В тот год, когда я тебя носила, твой отец вывихнул руку в лесу, а у Кесарии сгорел ребеночек в колыбели — она головешку нечаянно сунула ему в пеленки. А еще твоя бабушка продала корову и купила мне бусы», — говорила мать, сидя над керосинкой, как наседка, распустившая крылья над своими цыплятами. «Но когда это все случилось, в какие времена?» — смеялся сын. «А как раз когда я тебя носила», — отвечала невозмутимо мать, нахохленная, скучная, овеянная дыханием близящейся смерти. Видно, всем существом чувствовала она, что скоро должна будет распроститься с «красивой жизнью», ради которой бездумно пожертвовала всем, чем могла, и которая в конце концов оказалась не такой уж «красивой» и благополучной, как она это раньше себе представляла — раньше, до того, как она стала дворянкой, когда она завидовала тем, у кого была эта «красивая жизнь», и когда, выйдя из терпения, она кричала, уперев руки в бока, растерянному, напуганному мужу: «Ну вот, останется у нас мальчонка неученым!» Но сейчас легче было сносить то, что принесла, чем одарила глупость, нежели признаться в этой самой глупости; она же была теперь не какая-то там крестьянская дурочка, чтобы отказаться от всего, что сама затеяла, чего так добивалась; за то, чтобы разок полной грудью вдохнуть воздух родной деревни, она, по правде говоря, отдала бы и туфли с красными помпонами, и пестрый платок, но как признаться в этом, рискуя навлечь на себя насмешки соседей? Уж они-то не преминули бы вспомнить пословицу: «Не взлететь перепелке на дерево, не положено ей по ее природе». Не отказываться же было теперь от дворянства, поддельное оно или настоящее; оставалось дотерпеть — доболеть до конца этой подхваченной по собственному недомыслию болезнью. Да и в самом деле — поздно было казниться да каяться; сказано — лучше сожалеть в начале, нежели в конце; и, однако, если бы все началось сначала, наверно, она снова прошибла бы каменную стену, снова не задумываясь оторвала бы сына от себя, чтобы услышать хотя бы от одного человека: «Значит, ваша власть и ваша сила». Да, да, вот именно: когда тебе завидуют — это и есть «красивая жизнь». А потому изволь и ты терпеть, изволь принести кое-какие жертвы: слушать с утра до вечера и с вечера до утра паровозные гудки (и чего они ревут — ни минуты роздыху!), дышать целый день копотью и чадом керосинки, — вот она, черная манна на пути, ведущем к «красивой жизни», божья милость на новый лад. Не надо ни корову доить спозаранок, ни кур считать по вечерам. Живешь — не тужишь. Твой «мальчонка» приносит столько хлеба, что половина плесневеет, и отдаешь его вместе с пустыми бутылками молочнице. А в деревне небось хлеба не было и в помине! Хлеб ели с кукурузной лепешкой, как сыр. Хи, хи, хи… Чаем поили только больных. Ради чашки чая иной раз нарочно простужались. Хи, хи, хи… А такие вот туфли с помпонами и на покойника поскупились бы надеть. Хи, хи, хи… Живешь себе — не тужишь. Выставишь пустую бутылку за дверь, сядешь над керосинкой, и от чадного тепла оттаивает понемногу оледенелое нутро. Вспоминаешь о женском своем естестве. Хи, хи, хи… О материнстве… И как тут не загордиться (конечно, не без помощи ликера)? Вот и думаешь себе: что я породила, мне и принадлежит. Да, принадлежит. Чадящая керосинка вместо сына. Ай-люли… Блаженны неразумные! А ее мальчонка сам уже почти старик и влюбился — вот уж действительно как мальчишка — в маленькую девчонку. «Очень уж молода, а то бы я не прочь жениться», — со смехом говорил он матери. «Это не беда, и я девчонкой была, когда пошла за твоего отца», — отвечала, нахохлясь как курица, мать. «Но отец тогда, наверно, тоже был мальчонкой», — смеялся сын. «Почему мальчонкой — за мальчонку я бы замуж не пошла», — обижалась мать. «А все же, сколько ему было лет?» — не унимался сын. «Мужчины такие черти — любой мужчина девчонку до старости доведет», — хихикала мать. Так продолжалось до тех пор, пока мать не умерла; до того дождливого осеннего дня, когда, увлеченный писанием стихов, он вдруг всем своим существом ощутил, что душа склонившейся над керосинкой старухи тихо, бесшумно ускользнула из этого мира. «Что ты со мной сделала!» — воскликнул он в неподдельном горе; он был твердо уверен, что мать хоть перед кончиной признает свою ошибку, хоть на пороге смерти скажет ему, что это она испортила ему жизнь, спутала его жизненные пути, — а это необходимо было сыну как воздух, хотя бы для оправдания его немыслимой любви. А кроме того, беседы с матерью рождали в нем какую-то неясную, нелепую, нереальную надежду, за что он был глубоко благодарен ей, хотя ни разу не пытался представить себе Нато своей женой: ни тогда (в особенности тогда), ни после, когда Нато выросла, превратилась из девочки в девушку и в один прекрасный день родила ребенка, чем сразу лишила его возрастного преимущества, опередила, превзошла его, — разумеется, лишь по положению, как это бывает на военной службе, где звание, а не возраст определяют старшинство. Нато превосходила его теперь чином, так как стала уже матерью, а он все еще ютился один в злополучной щели своей греховной любви; впрочем, этому и не следовало удивляться, случилось лишь неизбежное: ведь Нато была божеством, а он — простым смертным. Так, оседлав Пегаса, он носился в голубых заоблачных высях поэзии, создавая гармонические строки о вечной девственности и непорочном зачатии, пока вестовой из казармы, по-солдатски грубо постучав к нему в дверь, не передавал ему приказания явиться на службу. А когда, протрезвев, он выходил на улицу, его любовь представлялась ему такой же низменной и нечистой, как вся та жизнь, что кипела и била ключом вокруг. Но такой он рисовал себе свою любовь для того, чтобы еще сильнее терзаться, чтобы любыми средствами подавить, убить это дерзостное, неразумное, дикое чувство, не имеющее никакого будущего, — хотя, конечно, он прекрасно понимал (и кто бы лучше его мог это понять?), что не было ничего чище, возвышеннее, святее, безгрешнее и беспорочнее в его жизни, чем именно эта любовь, на которую он не имел права и без которой, однако, он ничего не представлял собой, разве что песчинку в океане песка. Хорошо, что мир был охвачен смутой, что близился уже роковой, гибельный день и не хватало только одного пистолетного выстрела где-то в Сараеве, чтобы вооруженные до зубов, влекомые судьбой, обезумевшие, озверевшие государства набросились друг на друга, готовые уничтожать и быть уничтоженными, поглощать и быть поглощенными, готовые разрушать, не оставлять камня на камне, ничего не оставить, кроме развалин, обглоданных костей и довольного карканья наевшегося падали воронья, ибо ничего большего они и не заслуживали — но убийца эрцгерцога запаздывал, колебался, тянул словно нарочно, назло Сабе Лапачи, и тот все снова переписывал набело измятое от ношения в кармане «прошение» на имя кавказского наместника, которое сразу после объявления войны должно было швырнуть его в первый же костер, как высушенную ветрами и солнцем старую почерневшую щепку. В смятении бродил он по безлюдным улицам, потом выходил на берег моря и упорно вглядывался в ночную тьму, в незримую среди ночи морскую стихию, — незримую, но тревожную, мятущуюся, бьющуюся, как его сердце. «Не ходите по ночам один. А то, не ровен час, кто-нибудь еще обознается и натворит беды», — предупреждали его террористы. «Сделает доброе дело!» — со смехом отвечал Саба Лапачи. И говорил так не в шутку, а потому что в самом деле хотел смерти — смерти, а не самоубийства: убив себя своей рукой, он уже не только не смог бы дольше скрывать, а сам выставил бы перед всем светом на позорище свою робость, и не было бы человека, который не назвал бы его трусом. А между тем он, собственно, не был трусом — больше не был им — с того дня, когда он впервые взбунтовался против своего мундира, когда вместе с Давидом Клдиашвили не выполнил приказа и не стал стрелять в безоружных демонстрантов; разъяренный полковник Везиришвили потребовал от того и от другого письменных объяснений, но ничего не смог от них добиться; не менее разгневанный Клдиашвили с презрением бросил ему в лицо: «Я сначала слушаю свою совесть, а уж потом ваши безумные распоряжения». С того дня Саба Лапачи осмелел, исполнился отваги и упорно доказывал самому себе, что храбрость — неотъемлемое свойство его истинного характера, а не следствие минутного возбуждения или подражание чужому примеру. Просто смелость была до этого дня утрачена им вместе со всей его истинной природой. С тех пор всякий раз, как он встречался с Давидом Клдиашвили, тот с улыбкой говорил ему: «Мы, Саба, под одним ярмом с тобой, свершим же труд без колебанья свой»