Железный театр - [18]
А жизнь кипела, жизнь била ключом. Время исцеляло все раны, приносило забвение всех невзгод. Так было и в Батуми. Подрастали дети. На месте срубленных в девятьсот пятом деревьев шелестели другие, новые деревья. Выщербленные пулями стены домов были оштукатурены заново. Из открытого окна выпячивалась вдруг, как живот беременной женщины, белоснежная прозрачная занавесь, потом взвивались под ветром ее кончики, и вновь тюлевая волна исчезала внутри, за окном. Гремел оркестр в парке, разбитом на песке. По-прежнему под ногами гуляющих приятно шуршал усеянный сухой хвоей песок. Высокие сосны с потрескавшейся корой скрипели, как корабельные мачты. Из густой влажной темно-зеленой листвы выглядывали пышные томные цветы. На пляже показались первые отдыхающие — закутанные в белые простыни, нагруженные корзинками с провизией. Голый ребенок старательно накручивал граммофон, поставленный на скамейку. Повернув к городу свое огромное, похожее на цветок фасоли ухо, граммофон как бы прислушивался к каждому звуку, доносившемуся оттуда. Необъятный морской простор сверкал под лучами солнца, как лист жести. След босых ног начинался у полотняного шезлонга и исчезал в море. На песке валялась соломенная шляпа, а в ней — надкушенная груша. В Батуми приехала жена тбилисского артиста с сыном; она поселилась в той же комнате, из которой десять лет тому назад убежала от мужа. Да, прошло уже десять лет! Нато уже была десятилетней девочкой; Димитрий и Дарья готовились справлять день ее рождения. Димитрий стоял на стуле перед буфетом и собирался достать с верхней полки старинное, оставшееся еще от его родителей фарфоровое блюдо, которое должно было украсить праздничный стол. Дверь, ведущая на террасу, была открыта; через дверной проем вливалось в комнату ослепительное солнечное сияние. Из этого светового столба порой внезапно вырывался блестящий жук, словно испуганный пламенем, охватившим его крылья. Из комнаты Нато доносились голоса детей. От детского щебета еще покойнее, еще уютнее было в доме, напоенном солнечным светом и запахами сада. Дарья стояла рядом со стулом, протянув руки, чтобы взять из рук мужа блюдо; она смотрела на мужа, возвышавшегося над нею на стуле, взглядом, полным спокойного ожидания, как ангел на фреске, созерцающий что-то таинственное и незримое. А Димитрий весь вытянулся, поднявшись на цыпочки, чтобы получше ухватить массивное блюдо. От напряжения у него дрожали колени. В саду на верхушке лимонного дерева сидела птичка и отчаянно, во весь голос щебетала: казалось, она принесла здешним обитателям какую-то тревожную весть и сама охвачена тревогой, так как чувствует, что старается зря, что никто не понимает ее языка и не обращает на нее внимания. Димитрий снял с полки блюдо, опустился на пятки и осторожно повернулся на стуле. И в эту самую минуту в проеме двери вдруг возникла темная фигура — словно порожденная ярким солнечным светом, так как никто, кроме сверхъестественно ловкого вора или злого духа, не мог бы проникнуть незамеченным во двор. Не взвизгнула калитка, не прошуршал под ногами вошедшего песок на дорожке — и, однако, это не был зрительный обман: кто-то явно стоял в проеме двери. «Кого это нелегкая принесла…» — подумал Димитрий, и сразу в ушах у него отдался голос полицмейстера: «Да. Так вот, это самое. Значит, вы арестованы, изволите ли видеть, сударь. Да. Вы арестованы». Димитрий вздрогнул, выронил блюдо — оно полетело на пол и разбилось с таким грохотом, что казалось, обрушился потолок. Фигура в дверном проеме рассмеялась (так показалось Димитрию), выступила из светового прямоугольника и превратилась в подростка — сына тбилисского артиста. Он был одет в короткие бархатные штаны и полосатую рубашку. Аккуратно причесанные волосы его были еще влажны. «Что, напугал вас?» — сказал он и снова засмеялся. Димитрий еще утром испугался этого мальчика, еще утром понял, что совершил или, вернее, повторил уже однажды, давным-давно, совершенную оплошность, когда остановил на улице высокую женщину в черном, мать этого мальчика, и заговорил с нею как старый знакомый. Правда, они и в самом деле были знакомы с давних пор, но женщина эта не проявляла никакого желания сойтись поближе с соседями ни тогда, десять лет тому назад, когда впервые приехала с мужем в Батуми, ни теперь, спустя десять лет, когда, уже овдовев, неожиданно для всех вернулась в свое некогда отвергнутое, а ныне вновь обретенное наемное гнездо. Что ж, у всякого свои причуды… В чужую душу не заглянешь, да и кому какое дело до чьих-то там прихотей, но Димитрий считал в свое время мужа этой женщины и отца ее единственного сына настолько близким себе человеком (несмотря на его порой обременительные для других легкомыслие и своеволие), так жалел его, брошенного женой, оскорбленного, убитого горем, хоть и старавшегося — упрямо, но тщетно — скрывать это под маской беспечности и неуязвимости, да и сам этот человек, покинутый и бездомный, изнывающий от своей бесприютности, так любил бывать в уютном семейном доме Димитрия, угощаться приготовленными Дарьей кушаньями или попросту проводить долгие часы за беседой (пусть даже бессмысленной) с ними обоими, что Димитрий никак не мог даже сейчас, через десять лет, обойтись с его женой и сыном как с простыми, шапочными знакомыми, как бы отчужденно они сами ни держались с ним. Свое поведение он считал совершенно естественным и, вернувшись домой, даже забыл сказать Дарье, что пригласил на день рождения дочери сына давней, а теперь уже и новой соседки, что встретил ее на улице, когда шел из кондитерской с коробкой пирожных, и ему показалось неловким не остановиться и не поговорить с нею. Ни жена, ни дочь не осудили бы его; но сам он с утра почему-то чувствовал себя виноватым перед Дарьей и Нато — и, как вскоре выяснилось, совсем не без оснований. Конечно, было бы лучше, если бы он сумел этим утром подавить в себе внезапно нахлынувшее чувство жалости к этой женщине с лицом, закрытым в знак вечного траура черной вуалью, и к этому взбалмошному мальчишке, ее сыну; или, наконец, если бы он выразил свое внимание приветствием и обычными вежливыми вопросами о здоровье, если вообще тот или другая нуждались в чьем-нибудь внимании. В этом случае вполне возможно, что жизнь его и его близких действительно сложилась бы в дальнейшем совсем иначе, но уж если нечистый попутает человека, то заставит его сказать именно то, чего он ни в коем случае не должен говорить, и сделать то, чего он ни в коем случае не должен делать. В самом деле, кто его тянул за язык, кто, как не дьявол, велел ему сболтнуть, что у него сегодня счастливый день, праздник в доме? С чего ему взбрело на ум просить эту женщину отпустить к нему мальчишку? Неужели он ждал, что она или ее сын принесут ему счастье? Как будто он не сумел бы справить без них день рождения дочки! Как будто его сочли бы злым человеком и плохим соседом, если бы он не бросился обрывать полы спешащим куда-то по своим делам матери с сыном! Но к Димитрию давно уже, десять лет тому назад, пристал дьявол-искуситель, сперва принявший вид отца этого мальчишки, а в это утро появившийся перед ним, лишь чуть-чуть переменив свое обличье, переселившись из отца в сына. Женщина сделала такое изумленное лицо (это было заметно даже через вуаль), словно она впервые видела Димитрия. Она приехала в Батуми уже полгода тому назад, но держала себя так обособленно и так редко выходила из дома (кстати сказать, она теперь служила в Железном театре), что явно и на этот раз не собиралась ни с кем сближаться. Более того — она, кажется, даже таила злобу на своих прежних и нынешних соседей, как будто они были виноваты в том, что так несчастливо сложилась ее жизнь. Бывает так: считаешь своим долгом заметить кого-то, не пройти мимо, проявить к нему или к ней внимание, а он или она ни во что не ставят тебя и вниманию твоему не придают никакого значения. То-то она сперва и не приняла приглашения! Сквозь вуаль было отчетливо видно, как она вздернула брови, какое у нее стало строгое и надменное лицо, словно осмелились предложить ей что-то такое, чего она и в мыслях не могла допустить. Кое-как, сквозь зубы, выдавила она сухое «спасибо», да и то явно лишь из вежливости, словно вовсе не заслуживало благодарности то, что перед ней, чужой в этом городе (хоть и приехавшей вторично) и еще не устроившейся, бездомной (как и в первый раз), еще не обосновавшейся (почему, собственно, именно в Батуми?), от всего сердца распахивают дверь своего дома. «Большое спасибо, но Гела наказан и ему еще долго нельзя никуда выходить», — был ее ответ. «Хорошо. Прекрасно. Дело ваше. Я лишь исполнил свой соседский долг, а там господь с вами, поступайте, как вам подсказывают сердце и разум», — вот что должен был сказать Димитрий, чтобы избежать беды. Но так он думал потом, когда по пословице, арба уже перевернулась и стала видна не одна, а сотни дорог, ведущих к спасению; вернее, они только мерещились Димитрию, эти спасительные пути, чтобы он еще горше упрекал себя, еще больше терзался отчаянием, — на самом же деле, разумеется, не было не то что сотни, но и одного пути, уводящего от беды; существовал лишь путь мук и несчастий. Но мог ли думать так в тот роковой день, стоя на солнечном пригреве, под камфарным деревом, отец десятилетней девочки с большой, полной разнообразных пирожных коробкой в руках? Нет, конечно; ведь он был счастлив и хотел, чтобы все были счастливы; чтобы для всех, знакомых или незнакомых, детей день рождения его дочери стал радостным праздником; чтобы каждому мальчику и каждой девочке досталось по кусочку любимого лакомства Нато из этой напитанной сладостью, теплой, как живое существо, картонной коробки; чтобы каждый ребенок отрыгнул в его доме сегодня газом, напившись шипучего, искристого лимонада… Вот почему, наверно, Димитрий взял на себя в тот день посреди улицы роль адвоката незнакомого мальчика перед его едва знакомой матерью. И до тех пор не отставал он от этой достопочтенной дамы — хоть она и призывала к сдержанности одной лишь своей неприступной и высокомерной внешностью, — пока, потеряв терпение или сочтя неудобным так долго разговаривать с чужим мужчиной на улице, она не воскликнула: «Хорошо, отпущу его, только имейте в виду, что это будет не добрый поступок, а злодеяние с моей стороны!» Да, да, не сказала, а воскликнула, чем, пожалуй, несколько смутила Димитрия, и он, правда, лишь на мгновение, но все же ощутил, что стоит на скользком пути и, хотя стремится сделать доброе дело, получается у него нечто совершенно противоположное, как это обычно и происходило с ним на судебных процессах; но, единожды встав на скользкий путь, он уже не мог отступить или остановиться. Недаром сказано, что немого мать понимает; так и эта женщина лучше, чем кто бы то ни было, знала, какие мысли гнездятся в голове у ее сына, и знала, что знакомство с ним не принесет добра дочери Димитрия, да и вообще никому; но в то роковое утро Димитрию ничего еще не было известно об этом мальчике, в котором он видел лишь обыкновенного ребенка, такого же, как все другие; и поэтому он ласково улыбнулся и сказал, как сказал бы любому другому ребенку: «Ну что, придешь к нам в гости?» — и даже хотел потрепать мальчика по щеке, но тот чуть было не вцепился ему в руку зубами и не выговорил, а прорычал, оскалясь: «Приду!» — и прозвучало это не обещанием, а как бы угрозой. Вот тогда Димитрий испугался не на шутку; мелькнувшая на миг в глазах мальчика непонятная ярость смутила и озадачила его; он не мог постичь причины этой ярости, и все, что он говорил после этого, было чистым лицемерием, попыткой подольститься, и только; никогда, ни на одном процессе не говорил он так много, так возбужденно, так горячо, хотя и славился как говорун и красноречивый адвокат, так что на его процессы стекалось обычно множество народа, — не из интереса к судьбе подсудимого, а чтобы насладиться его ораторским искусством. Солнце уже заметно припекало, затылок и спина у Димитрия покрылись испариной, коробка с пирожными в руке становилась все тяжелей — он держал ее обеими руками и подпирал то одним коленом, то другим и все никак не мог закруглить свою речь, остановиться, так как не присяжных и не судью пытался убедить, а старался повлиять на детскую душу, погасить огонь того ничем не заслуженного гнева, той ярости, что обожгла его, неожиданно выглянув из глаз мальчика, — и, наверно, не добившись своего, проиграв этот «процесс», мучился бы и чувствовал себя несчастным не меньше, чем после проигрыша настоящего судебного дела. Димитрий чуть было даже не призвал на помощь память отца мальчика; лишь в последнюю секунду удержал он готовые сорваться с языка слова: «Твой отец любил у нас бывать», так как тайное чутье и профессиональный инстинкт подсказали ему, что он только испортил бы дело, упомянув имя тбилисского артиста; что это упоминание не сблизило бы его с мальчиком и его матерью, а, напротив, еще более отдалило бы от них как человека, знающего, хоть и не по своей воле, их в высшей степени интимную, семейную тайну. И хотя целью Димитрия было расположить к себе мальчика, он, к счастью, не хитрил и не притворялся, а говорил то, что действительно думал, говорил от сердца, так как был убежденным противником всяческого возмездия, наказания, а тем более наказания детей, и не раз прежде высказывал те же мысли, что в то утро, на улице. По мнению Димитрия, родители совершали непоправимое зло, наказывая ребенка. Они, разумеется, желают добра своему сыну или своей дочери, и строгость их подсказана любовью, но результат никогда не соответствует поставленной цели, так как наказание не «излечивает» ребенка, к чему, конечно, стремятся родители, а, напротив, лишь усугубляет исцеляемый «недуг», и они, они в первую очередь, несут ответственность за это. «Вот такими скрытыми свойствами обладает наказание, сударыня. Оно способно переродить человека, но отнюдь не исправить его. Ребенок, а следовательно, и вообще человек, если только он не безнравственен от природы — хотя преступные наклонности могут развиться у человека в зависимости от обстоятельств, как музыкальный слух или катар желудка, — становится после наказания совсем другой, новой личностью, так как время, потраченное на отбытие этого наказания и, следовательно, безвозвратно потерянное, навеки остается в его сознании и прежде всего отнимает у него веру в необходимость его собственного существования, потому что жизнь, которая уже однажды, хотя бы на время, избавилась от него, вовсе не обязана и не предназначена стоять на месте и ждать, кто когда отбудет свое наказание. И притом не имеет никакого значения, где отбывает его наказанный: в тюрьме или в комнате, в углу; время одинаково проходит без него. А жизнь, как и природа, не терпит пустоты; и, таким образом, законное место наказанного оказывается уже занятым — кто-то заполнил порожденную его непредусмотрительностью, неразумием или просто шалостью пустоту, и теперь он, непредусмотрительный, неразумный или проказливый, должен, хочет того или нет, посторониться, не путаться под ногами у других, предусмотрительных, разумных и непроказливых; одним словом, он должен смотать удочки или заново встать в очередь, что так же невозможно, как возвращение утраченного времени или второе рождение, ибо сам дьявол не знает, где конец или начало очереди; чтобы узнать это, надо проделать в обратном направлении весь путь, пройденный после рождения; спуститься назад по возрастной лестнице, перебрать сверху вниз все ступени телесного, душевного и умственного развития, и если это тебе удастся, тогда — пожалуйста, тогда поговорим, посмотрим… Сударыня… Сударыня…» — Димитрий запнулся — к стыду своему, он забыл имя своей собеседницы. «Елена», — напомнила она. «Так что, госпожа Елена, как бы ни были благородны намерения, руководящие нами, наказание — это отнюдь не просто ограничение свободы наказанного на определенный срок; оно вообще зачеркивает человеческую личность, хотя и не подразумевает этого, — ведь, в самом деле, человек до и после наказания не может считаться одной и той же личностью… У-уф!» — выдохнул Димитрий, словно портовой грузчик, поднявший и сбросивший с плеч огромную тяжесть. Женщину явно раздражали (это было видно и сквозь вуаль) его нескончаемые разглагольствования, казавшиеся ей пустой болтовней; но она из вежливости терпеливо слушала его. А Димитрий не отрывал взгляда от коробки с пирожными; он боялся посмотреть как на женщину, так и на мальчика — первой он стыдился, а второй внушал ему непонятный страх: всеми своими нервами чувствовал он его насмешливую улыбку. И точно так же ощущал он напряженный взгляд одноногого Косты, сидевшего на своей колоде на другой стороне улицы и умиравшего от любопытства. Но Димитрий мужественно перенес все эти неприятные испытания и, как мышь, что копала и копала в известной поговорке, докопался до кошки. И вот кошка уже вышла на охоту и стояла перед ним с лукаво сверкающими глазами. «А я уже бывал у вас, на чердаке, и притом много раз, а вы ничего и не заметили», — сказал наконец мальчик.

В романе признанного мастера грузинской литературы жизнь одного рода — «кровавой династии» — сплетается с судьбой страны и империи, прослеживается от начала XIX в. до конца XX века и абхазской войны.

В настоящее издание включены переводы из грузинской, армянской, абхазской и балкарской поэзии, осуществленные Беллой Ахмадулиной, творчество которой стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности второй половины XX столетия.Сборник включает в себя также избранные статьи и стихи поэтессы, связанные с Кавказом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
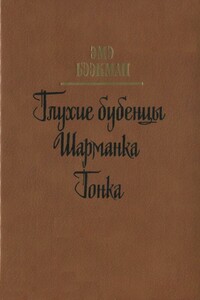
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.