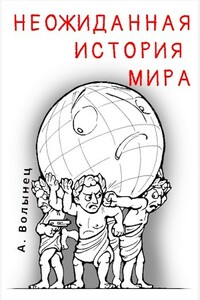Жданов - [8]
Дочь профессора богословия Екатерина Павловна Жданова, урождённая Горская, получила блестящее музыкальное образование. «Моя бабушка со стороны отца, — вспоминал позднее сын Андрея Жданова Юрий, — была замечательной пианисткой. Ещё звучит в памяти её исполнение произведений Листа, Шопена, Шумана, Чайковского, Грига. На них и был воспитан музыкальный вкус моего отца»>{22}.
Пройдёт 30 лет, и вдова статского советника Жданова уже в семье секретаря ЦК ВКП(б) в знаменитом московском Доме на набережной будет учить музицированию своего внука. «Её маленькие, старческие сморщенные пальцы, — напишет уже в XXI веке Юрий Андреевич Жданов, — прикасаясь к клавишам, исторгали море сильных, сочных, прелестных звуков. Она играла Бетховена, Листа, Шумана, Шопена, Грига, играла изумительно, хотя не касалась инструмента с дореволюционных времён, добрых два десятка лет»>{23}.
Семейное, но при этом весьма основательное музыкальное образование останется с Андреем Ждановым на всю жизнь. Даже в далёкие от комфорта 1920-е годы в двух комнатках коммунальной квартиры, в которых будет проживать уже большой партийный начальник, найдётся место для «непролетарского» пианино. И в 1930—1940-е годы рояль на даче Сталина будет предназначаться именно для нашего героя.
В самом же начале XX века маленький мальчик учился классической музыке у матери и русским народным песням у отца — помимо европейской и русской классики у него будет вкус и к народному творчеству, от «плачей» до частушек, а кроме солидного рояля в будущем Андрей Александрович сможет залихватски растянуть и рабочую гармошку.
Православный богослов и русский социалист-народник Александр Жданов стал первым учителем своего сына, благо знаний и педагогического опыта хватало. Жданов-отец, владея древнееврейским, древнегреческим, немецким, французским и английским языками, зная европейскую культуру, увлекаясь идеями марксизма и социализма, тем не менее — выражаясь более поздним языком его сына — не «низкопоклонствовал перед Западом» и был далёк от всяческого новомодного в начале XX века «декаданса».
Благодаря отцу мальчик не только получил начальное образование, любовь к русской классической литературе и народным песням, но и познакомился с обеими идеологическими доктринами — с православием (не как религии, а в качестве культурной традиции) и революционными идеями. Заложенное отцом наследие будет проявляться в деятельности сына всю жизнь, даже когда он станет вторым человеком в иерархии сверхдержавы Сталина.
Вспоминая о первом десятилетии XX века, сестра Татьяна рассказывала: «Андрюша в этот период много занимался метеорологией и под руководством отца делал метеорологические наблюдения на огороде, где был дождемер, а затем в течение ряда лет делал записи о состоянии погоды, температуре, осадках и ветре»>{24}. Даже это привитое отцом детское увлечение изучением природы останется на всю жизнь — не случайно Андрей Жданов будет поступать в сельскохозяйственный институт, а уже в последующие годы у него в доме будет солидная библиотека по биологии. «Но интересы его при обучении, — напишет позднее сын Юрий, — склонялись не к биологии, а к метеорологии и климатологии. К этим наукам он питал склонность всю жизнь, интересовался проблемой долгосрочных прогнозов (погоды. — А. В.)». Через три десятка лет уже член ЦК и прочая-прочая будет удивлять советских лётчиков-полярников совершенно неожиданными для кремлёвского небожителя познаниями в области метеорологии.
Первые годы страшного XX века были счастливым временем для маленького Андрея Жданова, проведённым в любви и достатке на природе сонной и патриархальной русской провинции. Даже события 1905—1907 годов откликнулись в Корчевском уезде лишь отдельными забастовками, а местные «террористы» из эсеров ограничивались так и не осуществлёнными прожектами взрыва железнодорожного моста через речку Шошу, чтобы помешать переброске гвардейских войск из Петербурга во время декабрьских баррикадных боёв 1905 года в Москве.
В 1920-е годы в партийной автобиографии Андрей Жданов, пусть и казённым стилем, попытается изложить, как он впервые приобщился к политике:
«Детство моё прошло под влиянием революционных взглядов отца (к партии не принадлежал, но водил дружбу с социалистами и толстовцами), который дал основной толчок к созданию революционного мировоззрения. Так как отец симпатизировал более всего с.-д. (социал-демократам. — А. В.), то основное направление его воспитательной работы было марксистским. Как только я стал жить сознательной жизнью, а у меня она началась в 1904—1905 годах — я симпатизировал с.-д. и следил за всеми перипетиями их работы в промежуток 1906—1912 годов по тем источникам, которые имел (буржуазная пресса, брошюры издательств первой революции 1905— 1906 годов)»>{25}.
При всей суконности официального изложения, несомненно, что в те годы десятилетний мальчик пусть ещё смутно, но интересовался большими событиями окружающего мира, тем более что дети очень чутко реагируют и улавливают, а часто и копируют интересы и симпатии родителей. Впрочем, этот первый интерес к политике у младшего поколения Ждановых был ещё абсолютно детским. Татьяна вспоминала: «Иногда мы, дети, собирались в бане на огороде и во всё горло пели там без стеснения революционные песни и кричали: "Царь дурак, чёрт!", "Долой самодержавие!"…»
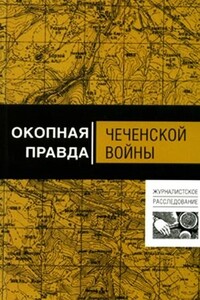
Авторы этой книги в большинстве своем страшно далеки от профессиональной журналистики. Это рядовые и лейтенанты, авантюристы и боевики, случайные попутчики и зэки — свидетели, участники, соучастники, герои и жертвы войны в Чечне. Бои в горах и разговоры в купе, беседы на нарах и в зинданах, стычки на дорогах и рынках, в лесах и городах. Непрофессиональная, неприкрашенная, окопная правда…Книга охватывает весь период и всю географию чеченской войны — от новогоднего штурма Грозного в 1995-м до боев с ваххабитским подпольем в Дагестане летом 2007-го.
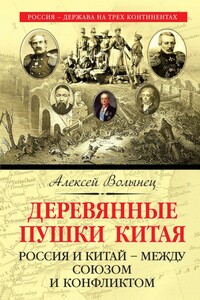
Чем «опиумные войны» англичан в Поднебесной были похожи на Крымскую войну? Почему русские без единого выстрела вернулись на потерянный Амур и отчего за Приморье пришлось сражаться не с китайцами, а с Англией? Зачем русские гвардейцы учили маньчжурских солдат и почему китайские «казаки» Синьцзяна съели русских пленных? Как Китай влиял на постройку Транссиба и Владивостокской крепости? Зачем Россия помогла Пекину вернуть центр Азии и сколько могла стоить большая русско-китайская война? На эти и многие другие вопросы ответит книга «Деревянные пушки Китая» – о том, как военная история XIX века повлияла и до сих пор влияет на русско-китайские отношения…
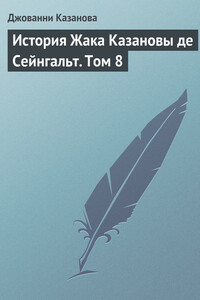
«В десять часов утра, освеженный приятным чувством, что снова оказался в этом Париже, таком несовершенном, но таком пленительном, так что ни один другой город в мире не может соперничать с ним в праве называться Городом, я отправился к моей дорогой м-м д’Юрфэ, которая встретила меня с распростертыми объятиями. Она мне сказала, что молодой д’Аранда чувствует себя хорошо, и что если я хочу, она пригласит его обедать с нами завтра. Я сказал, что мне это будет приятно, затем заверил ее, что операция, в результате которой она должна возродиться в облике мужчины, будет осуществлена тот час же, как Керилинт, один из трех повелителей розенкрейцеров, выйдет из подземелий инквизиции Лиссабона…».
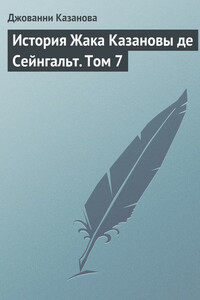
«– Вчера, – сказала мне она, – вы оставили у меня в руках два портрета моей сестры М. М., венецианки. Я прошу вас оставить их мне в подарок.– Они ваши.– Я благодарна вам за это. Это первая просьба. Второе, что я у вас прошу, это принять мой портрет, который я передам вам завтра.– Это будет, мой дорогой друг, самое ценимое из всех моих сокровищ; но я удивлен, что вы просите об этом как о милости, в то время как это вы делаете мне этим нечто, что я никогда не осмеливался бы вас просить. Как я мог бы заслужить, чтобы вы захотели иметь мой портрет?..».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.
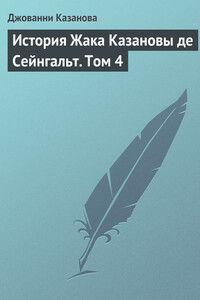
«Что касается причины предписания моему дорогому соучастнику покинуть пределы Республики, это не была игра, потому что Государственные инквизиторы располагали множеством средств, когда хотели полностью очистить государство от игроков. Причина его изгнания, однако, была другая, и чрезвычайная.Знатный венецианец из семьи Гритти по прозвищу Сгомбро (Макрель) влюбился в этого человека противоестественным образом и тот, то ли ради смеха, то ли по склонности, не был к нему жесток. Великий вред состоял в том, что эта монструозная любовь проявлялась публично.
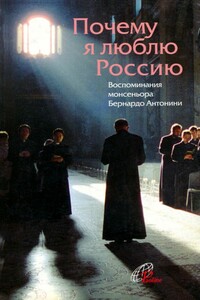
Отец Бернардо — итальянский священник, который в эпоху перестройки по зову Господа приехал в нашу страну, стоял у истоков семинарии и шесть лет был ее ректором, закончил жизненный путь в 2002 г. в Казахстане. Эта книга — его воспоминания, а также свидетельства людей, лично знавших его по служению в Италии и в России.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.