Жадина - [21]
Я не пишу, что я ее сын и Марциан, потому что это она и без меня знает. Мне не стыдно писать ей о том, что я люблю ее, ведь это правда. Но то, что мы сделали все равно никуда и никогда не исчезнет. Будет болезненной раной, к которой каждый из нас боится прикоснуться. Я почти хочу попросить ее, чтобы она рассказала папе. Может быть, она и сама расскажет. Или я расскажу. Думать об этом так сложно, и я все время прячу эти мысли, сминаю их, как фантики от конфет, и выбрасываю. Но фантики от конфет исчезают навсегда, а мысли возвращаются снова и снова. Вкладываю письмо в конверт, и Юстиниан заглядывает мне через плечо.
— Ты серьезно?
— Я ничего не сказал, — говорю я. — Поэтому я не серьезно.
— Ты будешь писать родителям о том, что уезжаешь? Они ведь будут тебя искать.
— Но не найдут, — говорит Ниса. — Он же не покупал билет.
— В любом случае, письмо это странно. Ты же не барышня из прошлого века. Если бы ты хотя бы объявил в письме о своей помолвке, это показалось бы стилизацией.
— Отстань, — говорю я. — Я не могу позвонить. Потому что они поймут, что я вру. Или я не захочу их расстраивать и сам все скажу. Мне нужно быть стойким.
— Да, — говорит Юстиниан. — Пожалуй, я отстану и схожу за едой. Офелла, ты со мной?
Но Офелла молчит. Она тоже что-то пишет, только ожесточенно и в толстой тетрадке. Ее светлые волосы гладят бумагу, когда она ниже склоняется над текстом. А когда Офелла убирает пряди за ухо, чтобы не лезли в глаза, я замечаю, что у нее по носу рассыпаны едва заметные веснушки, такие светлые, что хочется коснуться их краской.
Она не обращает внимания на слова Юстиниана, словно не слышит.
— Хорошо, — вздыхает Юстиниан. — Ниса, тебе не предлагаю сходить со мной за едой, ведь твоя еда пишет своей мамуле письмо.
— Ты обещал отстать, — говорю я.
— Ты прав, человек моего масштаба должен выполнять обещания.
Когда Юстиниан уходит, мы с Нисой переглядываемся. Вовсе не потому, что хотим порадоваться тому, что Юстиниан нашел себе дело. Я говорю первый:
— Ты думаешь, они сестры? Мама говорила, что ее сестра покончила с собой. Они очень любили друг друга, и мама до сих пор не может смириться с тем, что тети больше нет. А если она есть?
Ниса передергивает плечом. Движение выходит слишком дерганное, чтобы показаться безразличным.
— Я не знаю, Марциан, — говорит она. — Моя мама никогда ничего не рассказывала о себе. Она вообще не очень охотно со мной говорит.
— А папа?
— Он говорил, что мама — парфянка, просто в ней есть чужая кровь, поэтому внешность у нее для наших краев экзотическая.
— А про ее прошлое? — спрашиваю я. Ниса щурится. Она не то чтобы раздражена моими вопросами, скорее, я вижу, она никогда не задумывалась о своей матери.
— Слушай, — говорит она. — Я не особенно интересовалась ее прошлым. Мама и мама. Мне кажется, я на нее всю жизнь обижена. Она очень холодная. Я не знаю, зачем ей вообще нужен был ребенок.
— Ты никогда не рассказывала, что у тебя так в семье.
— Ну, да. Потому что я не хочу думать о своей семье.
— Но если наши матери и вправду сестры, то мы — кузены. И я тоже твоя семья.
Она улыбается. Зубы у нее такие белые, что кажутся синеватыми. Так бывает, если немного стирается эмаль. А она стирается, если часто и подолгу чистить зубы. Так делает Ниса, потому что ей все время кажется, что у нее во рту привкус крови.
— Наверное, об этом мечтают двенадцатилетки, — говорит она. — Встретить лучшего друга, и чтобы он оказался братом. Клево.
— А у вас никогда не было таких случаев, чтобы люди других народов становились как вы?
— Не было. Все говорят, что это невозможно. Даже в учебниках так пишут.
Я достаю фотографию из кармана, снова рассматриваю двух молодых девушек на ней. Одна из них стала женой моего папы, дала жизнь мне и моей сестре, пишет книги про странную науку и все время нервничает. Другая умерла, исчезла, растворилась во времени, а затем оказалась в Парфии, создала семью и стала одной из народа богини, которую называют Матерью Землей. Звучит странно, и в то же время намного менее нереалистично, чем то, что мир становится черно-белым от червей из глаз Нисы.
Я глажу пальцем мамину шляпку. Она выглядит такой счастливой, но в ее лице и в момент наивысшего спокойствия, до всех произошедших с ней ужасов, есть нечто нервное. Санктина выглядит скорее жадно веселой, как эти люди, которые всегда напиваются на праздниках, потому что ни в чем не знают меры. У нее красивые черты, а от улыбки они становятся резче, будто бы хищными.
Словно в те далекие годы эта девушка уже знала, кем станет однажды. На фотографии глаза у нее, наверное, синие, а может голубые. Не слишком хорошо видно. Но когда я встречал ее в последний раз, они были пшенично-желтыми, как у Нисы.
Когда Ниса отворачивается, чтобы посмотреть на Офеллу, я кладу фотографию в конверт. Когда-то мама порвала все фотографии со своей сестрой и, наверное, она жалеет об этом. Я бы пожалел. Мне хочется вернуть ей фотографию, ведь именно ей, а не Нисе или мне, она на самом деле принадлежит. То есть, совсем на самом деле, конечно, Санктине, но Санктина никогда не думала, что мама умерла и может увидеть ее фотографии в газетах.

Добро пожаловать в Нортланд, государство, имеющее безграничную власть над жизнью и смертью своих подданных. С помощью женщин, обладающих особенными способностями, Нортланд производит силу, идеальных солдат с невероятными для человека возможностями. Эрика Байер одна из тех, кто занят в этом производстве, и ее положение в Нортланде кажется надежным, однако, когда ее подопечный становится солдатом, для Эрики меняется слишком многое. Власть, кровь, страх, секс, подчинение, сопротивление, страсть, ненасыщаемый голод — вот что скрывается за нежным ароматом цветущих лип на аллеях Нортланда.

В мире, где альтернативная Америка со всеми ее инстаграммами, твиттерами, Старбаксами, антидепрессантами и ток-шоу соседствует с древними богами, без труда способными стереть в порошок человеческую цивилизацию, живет Грайс, девушка из жреческой семьи, выбранная для того, чтобы продолжить род Дома Хаоса. Чудовищные твари, давным-давно заключившие завет с людьми, выглядят как люди, играют в гольф, ведут кровавые ток-шоу и заключают многомиллионные сделки. Становясь женой одного из таких существ, Грайс выполняет свою часть завета, оставляя, вместе с фамилией, человеческое общество.
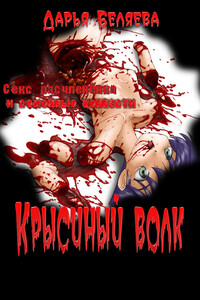
Чо там у халдеев? Прямое продолжение «Ночного Зверька». Амти и ее друзья продолжают свои попытки выжить в мире, полном суицидальной мегаломании, псевдозороастризма и высокофункциональной психопатии. И приключения отважного маленького Шацара в комплекте.

В некотором тоталитарном царстве-государстве, где быть злым означает быть мертвым, умница и неудачница Амти пытается выжить и найти свое место. В общем секс, расчленёнка и семейные ценности.
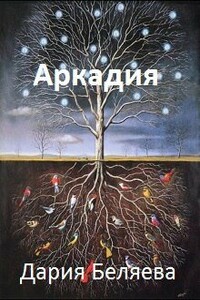
История о юношах и девушках из современного Стокгольма, попавших в сказочный и злой мир, где им пришлось стать принцами и принцессами волшебной страны, которая вовсе не является такой спокойной и безмятежной, какой кажется. Сказка о смерти и любви, что сильнее, чем смерть, а кроме того, о дружбе и гигантских насекомых.

Закари Ин ничего не знает о Китае. В школе преподают только западную историю и мифологию, а мама-китаянка не любит говорить о своем прошлом. Самое время пройти экспресс-курс, потому что маму Зака похитили демоны, которые пытаются открыть портал в подземный мир, а дух Первого императора Китая вселился в его очки дополненной реальности и комментирует все происходящее. Теперь у Зака есть всего четырнадцать дней до наступления Месяца Призраков, чтобы на пару с одним из самых печально известных тиранов в истории добраться до Поднебесной, украсть могущественные артефакты, сразиться за мир смертных и спасти маму.

Отправляясь хоронить надежды на самую бесперспективную окраину империи, Гайрон четвертый сын из дома Рэм даже не подозревает какую долю ему, на самом деле, уготовила безжалостная судьба. А пока он решает проблемы, бесполезной на первый взгляд провинции, империя начинает трещать по швам. Иллюстрации в произведении подобраны автором.

Пески и ветра, ифриты и джины, сокровища самого султана, и даже таинственный орден ашинов — полный тайн и загадок восток отнюдь не желает выпускать Ильдиара де Нота из своих жарких объятий. Чтобы вернуться домой, ему придется внимать голосам Пустыни и научиться играть по ее правилам. В то же время по следам отправленного в изгнание магистра отправляется его бывший оруженосец, а ныне — друг и соратник, сэр Джеймс Доусон, которому в его предприятии помогает старозаветный паладин Прокард Норлингтон. Но, на свою беду, рыцари делают остановку старом придорожном трактире, двери которого ведут вовсе не туда, куда бы хотелось его постояльцам. Теперь их путь лежит через Терновые Холмы — серый и безрадостный край, где живые люди лежат в присыпанных землей могилах, в небесах кружат желто-красные листья, а меж кустов колючего терна и цветущего чертополоха бродят опасные и вечно голодные твари…

Сборник материалов по миру Вольного Флота. Страны, народы, расы, мелкие рассказы, не касающиеся основного повествования.
![Беглец [или "Не хочу быть героем"]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
Маленький боевик в стиле меча, магии и черного плаща. Автор постарался максимально избежать ляпов и очевидных несуразностей. Надеюсь получилось.
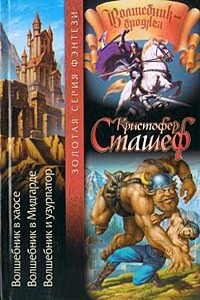
Сын легендарного «чародея поневоле» Магнус — это, что называется, оригинальное слово в искусстве Высокой магии!Есть, знаете, масса чародеев, бродящих из мира в мир во исполнение своей высокой миссии... а вот как насчет волшебника, что бродяжничает В ПОИСКАХ этой самой миссии — а найти ее ну никак не может?..Есть, знаете, просто куча магов, готовых сей секунд пустить свое искусство в ход во имя благого дела... а вот как насчет волшебника, что во имя благого дела чародействовать КАК РАЗ НЕ НАМЕРЕН?..Это — блистательный сериал Кристофера Сташефа.Самая забавная смесь фэнтези и фантастики, невероятных приключений и искрометного, озорного юмора, какую только можно вообразить.Вы смеялись над славными деяниями «чародея поневоле»? Тогда не пропустите сногсшибательную сагу о странствиях ВОЛШЕБНИКА-БРОДЯГИ!

Завершение тетралогии в истории самого, пожалуй, загадочного персонажа цикла - императора Аэция.Мистическая роад-стори и погружение в страну варваров и ее непростые отношения с реальностью.

История матери Марциана, императрицы Октавии и ее сложного времени. История о том, как ничего не осталось от блистательной эпохи принцепсов, о другом народе, другой культуре и другом боге. Вторая часть тетралогии, где важные вещи происходят двадцать два года назад.

В мире, где в период существования Римской Империи неизвестная болезнь уничтожила большую часть человечества, оставшиеся в живых призвали древних богов, вера в которых разделила людей и подчинила их жизнь исполнению божественной воли. Спустя тысячелетия после катастрофы император страны совершает великий грех, и его сын Марциан пытается спасти отца от безумия и смерти.
