Зет - [104]
Я выпускаю тебя из моих опытных рук, опытных рук «выжившего депутата», и ты все дальше уходишь в область, которую я назвал бы областью снов. Твое лицо мелькает среди кошмаров даже при моем пробуждении, которое тоже кошмар, потому что тебя больше нет. Ты существуешь в снах, потому что сны — плод нашей фантазии. Хотя твое имя треплют на допросах, меня это не трогает, ведь я чувствую себя перед тобой предателем и очень завидую тебе. Мои нервы обнажены, я страшно подавлен. Но как только я открываю глаза и не вижу тебя, мой милый странник, я ощущаю невосполнимость потери и ненависть к тому, что пригвоздило меня к койке провинциальной больницы.
И вот я продвигаюсь вперед, сбрасывая постепенно груз. С каждым рассветом я убеждаюсь, что расстояние между нами увеличивается. Я уже не знаю, как мне до тебя добраться. Твое лицо, маяк в ночи для путников, рождает во мне чувство одиночества, как у сторожа маяка. Иногда я гашу маяк, и тогда корабли разбиваются о скалы. Я питаюсь за счет потерпевших кораблекрушение, которые никогда не заговорят. Но то, что я болтаю, — гипербола, ложь, так как я с точки зрения объективной реальности не центр мира. В то же время, с точки зрения моей внутренней сущности, я некий центр по отношению к другим людям. Я лишь тот, кто обожал твое лицо и заполнял пустоту, оставленную тобой, чтобы свистеть в ней, как ветер. Этот свист, романтический свист, похож на гудки поездов. Но романтизм неуместен в наше время. Звуки теперь стали более резкими и ритмичными, и их не запишешь на пяти нотных линейках с известными ключами. Звуки теперь, при записи фонографом, образуют, наверно, короткие, отрывистые, не связанные между собой черточки, углы, скрещения — нечто асимметричное, где свободно может отдохнуть ласточка и запутаться бумажный змей, оставив нам в наследство свой остов. Этот остов и есть я, а ласточка — мое сердце.
Рассуждая так, я получаю право или повод не приближаться к тебе в действительности, не вступать в полк людей, окружающих твой идол. Ведь нет сомнения, что для других ты превратился в фотографию. В твоем портрете многие видят самих себя, а для меня ты пара глаз, которые, увлажняясь, похожи на море, а высыхая, на бассейны личного пользования.
В бреду мне мерещится, что я нужен тебе, так как у тебя есть свои человеческие потребности. И готов броситься тебе на помощь, но руки и ноги у меня точно в путах, которые я не могу разорвать. Тогда я просыпаюсь, обливаясь потом, и думаю с облегчением, что тебя нет на свете.
Я говорю «с облегчением», и пусть это не кажется тебе странным, потому что в глубине души я не хочу меняться. Мне нравится моя хижина на маяке, на скале, обрывающейся в море. Я люблю эту скалу. И умру вместе с ней, а не с тобой. Но ты дал мне ощущение беспредельности. Есть люди, которые сражаются на передовой, когда другие, отстав, ухаживают за ранеными героями. Я принадлежу к тем, кто позади, хотя такое не по душе тебе, настоящему герою. Мне следовало бы прежде жить иначе, тогда и теперь я был бы другим. Но нам дана одна жизнь, и у меня страх перед отпущенной мне жизнью.
Мысли падают в тишину двора, как спелые груши. Я долго молчал, и за это время окреп мой голос. Но сам я все равно никуда не гожусь. Часы сломаны и часто останавливаются. То и дело приходится осторожно заводить их, чтобы слишком резким движением окончательно не вывести механизм из строя — так обращаются с испорченным водопроводным краном, который нельзя сильно закручивать, потому что резиновая прокладка стерлась и из крана вдруг снова начинает неудержимо литься вода.
Все это, как ты уже убедился, относится не к тебе, а только ко мне и тебя ничуть не должно трогать. Меня это трогает с тех пор, как ты сам заставил меня заговорить с тобой. С тех пор как между нами установилась какая-то связь. Чувствую ли я себя хорошо, чувствую ли отвратительно, впадаю ли в отчаяние — все в зависимости от тебя. Но мы не можем существовать вместе, потому что принадлежим к разным мирам: ты к миру живых мертвецов, а я к миру живых, но мертвых людей.
Порой мне снится, что я нужен тебе и ты бранишь меня за эгоизм, так как я слишком поглощен своими страданиями. И тогда я, проникаясь любовью к тебе, вспоминаю какие-то мелочи, составляющие или не составляющие нашу жизнь: как однажды я дал тебе прикурить, как мы слушали стихи, записанные на пластинки, как ты мог ударить человека и не ударил.
Вот то немногое, что я хотел поведать тебе, вырвавшись ненадолго из своей больничной палаты. Я вылавливаю тебя из океана газет сетью моего сердца. Подумай, сколько чернил, сколько негативов ушло на тебя! Если бы все это обратилось в кровь, ты жил бы вечно. Но все равно ты будешь жить вечно, потому что кровь, твоя кровь, превратилась в свет.
2
Он не находил себе места в Нейтрополе. Город казался ему маленьким, тесным, полным опасностей. Большому кораблю — большое плавание, говорил он себе и людям. С тех пор как Городское архитектурное управление безжалостно снесло три возведенные им подпорки, он понял, что «несчастный случай» на охоте не за горами. Поэтому он наконец решился: бросил жену, мать, детей и уехал в Афины. Там в безликости большого города Хадзис чувствовал себя спокойней. Там он не подвергался опасности. Там его единомышленники были сильней «тех».

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
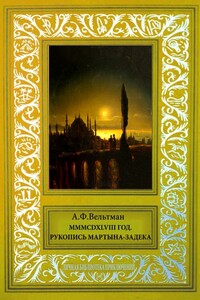
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.