Зелменяне - [76]
Она даже не оглянулась.
Хая, куда ты поставила лохань?
Последние дни реб-зелменовского двора прошли как в чаду. Предметы плавали перед глазами, а в памяти почти ничего не оставалось. Запомнилась только мокрая кирпичная стена, которая своей красной свежестью наводила ужас на разрушенные домишки. Это из-под лесов понемногу вылезала конфетная фабрика «Коммунарка».
Зелменовы до последней минуты суетились в старых домишках, куда уже не проникал луч света, и целые сутки откуда-то из-под лесов слышался тоскливый голос:
— Хая, куда ты поставила лохань? Где лохань, а?
По-видимому, с этой лоханью дела были плохи. Реб-зелменовский двор, не привыкший трогаться с места, потерял голову.
В те знойные летние дни Зелменов смотрел на Зелменова умоляющими глазами — хотел дознаться, что тот, собственно говоря, делает там, в своем темном домишке под лесами. Не помогало: Зелменов не любил, чтобы совали нос в его дела.
Комодики стояли обвязанные веревками, в железные ведра были запиханы подушки, а на припечке все еще тлел среди нескольких головешек зелменовский огонь, нудный огонек, который варит фишбульбе.[23]
Запомнились похороны Цалела дяди Юды.
Этот молодой человек, который записал историю своей жизни на воде, был похоронен вместе с реб-зелменовским двором.
Из-под лесов вытащили гроб молодого Зелменова. Похоронная процессия двинулась боковыми улочками. Никто из прохожих даже не остановился, чтобы узнать, кто лежит в гробу, а умер Цалел, последний из благородных молодых людей реб-зелменовского двора.
Солнце пекло. Вдоль тротуарчиков стояли, словно с зажженными свечами, каштановые деревья, они пропустили сначала несколько бородатых пешеходов, а потом пролетку с Соней дяди Зиши и тетей Малкеле. Соня, конечно, лежала у тети на груди, и бедная старуха должна была давать ей нюхать из разных пузырьков.
Медленно ехал убогий катафалк, красный, с посеребренными шарами; на высоких козлах — обросший возница, как ангел смерти.
Боль, конечно, была велика.
Зелменовы молчали, не так из-за уважения к покойнику, как из-за того, что им просто нечего было сказать.
Лишь в узком переулочке перед кладбищем появилась на каком-то заборе безымянная птичка — Цалел всю свою жизнь боролся, чтобы дали ей имя, — и зачирикала скучную песенку вместо знаменитого шопеновского траурного марша. Но все же безымянная птичка была достаточно вышколена, и там, на заборе, что перед кладбищем, она ему пропела известное четверостишие из собрания сочинений Гейне, том 1, страница 457:
Двое пьяных евреев совершили над Цалелом обряд. Гробовщики стояли с лопатами и высматривали, не перепадет ли им что-нибудь. Но им дали шиш. Было не до того.
Старый дядя Ича утирал большим платком слезы. По правде говоря, он, кажется, с Цалкой никогда и словом-то не обмолвился, но все же оплакивал его приличия ради, чтобы не осрамить покойника.
Знойный летний день.
Высоко в небе над самым кладбищем плавает маленькое белое облачко. Воздух прозрачен и чист, как будто и впрямь нет никакого воздуха. Лист на дереве не шелохнется.
Когда все уже ушли, у засыпанной могилы еще стояла Эстер, переписчица прописей. Наряженная в свою черную шаль, с горящими глазами, которые блестели на мучнисто-бледном, вытянутом лице, она до позднего вечера стояла с заломленными изнеженными руками над грустным холмиком.
Она плакала.
Ей, Эстер, переписчице прописей, и впрямь казалось, что она стоит над могилой той самой науки, одной из основоположниц которой она была.
Было позднее лето, внизу, в долине, пониже кладбища, цвела картошка.
И вот что спасли в последний момент из погибшего реб-зелменовского двора: двенадцать медных кастрюлек, восемь горшков, шестнадцать больших чугунов, три медных горлача и пять глиняных, шесть железных кочерег, четыре помела, семнадцать терок, восемнадцать помойных ведер, четыре ушата, совок для муки, мочалку, коробку из-под чая Высоцкого, бутыль черники, рогожу, еще довольно хорошую для того, чтобы обить ею дверь, муфту, котелок, что носил дядя Зиша, царство ему небесное, связку высушенных лимонных корок, один валенок — второй как в воду канул, — чернильницу, одну медную тарелку и весы, белую плитку кафеля для разделывания селедки, березовый чурбан. Дядя Фоля сорвал со стены фарфоровый ролик, а тетя Гита — мезузу с двери, — быть может, удастся где-нибудь в новых квартирах прибить.
Возле двора было черно от людей.
― Как вам нравятся эти реб-Зелмочки? Покуда что они получают отличные квартиры!
— Неизвестно за что!
Набожные евреи, нахлебнички, с тростями в руках, с холеными бородами, целыми днями простаивали у реб-зелменовского двора и на разные лады обсуждали вопрос о Зелменовых. Во всем этом они усматривали Божий перст. Когда из-под лесов показывался Зелменов, на него сразу набрасывались, как на человека, который вышел от умирающего больного:
— Ну что? Таки плохо?
Но тут этот Зелменов становился скуп на слова, оглядывал собравшихся взглядом человека, который, слава тебе Господи, уже знает все, но предпочитает молчать, и снова исчезал под лесами, чтобы возвратиться к своему тайному занятию — вытаскивать небось гвозди из стен.
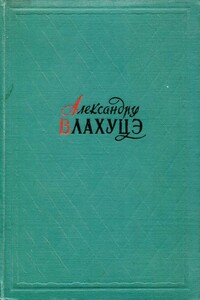
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Распространение холерных эпидемий в России происходило вопреки карантинам и кордонам, любые усилия властей по борьбе с ними только ожесточали народ, но не «замечались» самой холерой. Врачи, как правило, ничем не могли помочь заболевшим, их скорая и необычайно мучительная смерть вызвала в обществе страх. Не было ни семей, ни сословий, из которых холера не забрала тогда какое-то число жизней. Среди ученых нарастало осознание несостоятельности многих воззрений на природу инфекционных болезней и способов их лечения.

"Характеры, или Нравы нынешнего века" Жана де Лабрюйера - это собрание эпиграмм, размышлений и портретов. В этой работе Лабрюйер попытался изобразить общественные нравы своего века. В предисловии к своим "Характерам" автор признался, что цель книги - обратить внимание на недостатки общества, "сделанные с натуры", с целью их исправления. Язык его произведения настолько реалистичен в изображении деталей и черт характера, что современники не верили в отвлеченность его характеристик и пытались угадывать в них живых людей.
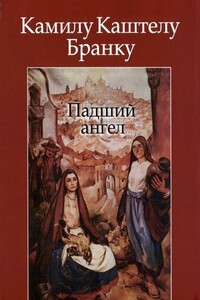
Роман португальского писателя Камилу Каштелу Бранку (1825—1890) «Падший ангел» (1865) ранее не переводился на русский язык, это первая попытка научного издания одного из наиболее известных произведений классика португальской литературы XIX в. В «Падшем ангеле», как и во многих романах К. Каштелу Бранку, элементы литературной игры совмещаются с ироническим изображением современной автору португальской действительности. Использование «романтической иронии» также позволяет К. Каштелу Бранку представить с неожиданной точки зрения ряд «бродячих сюжетов» европейской литературы.
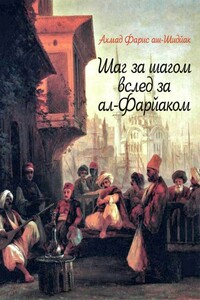
Представляемое читателю издание является третьим, завершающим, трудом образующих триптих произведений новой арабской литературы — «Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже» Рифа‘а Рафи‘ ат-Тахтави, «Шаг за шагом вслед за ал-Фарйаком» Ахмада Фариса аш-Шидйака, «Рассказ ‘Исы ибн Хишама, или Период времени» Мухаммада ал-Мувайлихи. Первое и третье из них ранее увидели свет в академической серии «Литературные памятники». Прозаик, поэт, лингвист, переводчик, журналист, издатель, один из зачинателей современного арабского романа Ахмад Фарис аш-Шидйак (ок.

«Мартин Чезлвит» (англ. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, часто просто Martin Chuzzlewit) — роман Чарльза Диккенса. Выходил отдельными выпусками в 1843—1844 годах. В книге отразились впечатления автора от поездки в США в 1842 году, во многом негативные. Роман посвящен знакомой Диккенса — миллионерше-благотворительнице Анджеле Бердетт-Куттс. На русский язык «Мартин Чезлвит» был переведен в 1844 году и опубликован в журнале «Отечественные записки». В обзоре русской литературы за 1844 год В. Г. Белинский отметил «необыкновенную зрелость таланта автора», назвав «Мартина Чезлвита» «едва ли не лучшим романом даровитого Диккенса» (В.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.