Зеленая стрела удачи - [87]
Сел за стол, начал готовить расчет на установку двух молотов. Бетонировать надо было фундаменты, и как назло крутилась в голове неизвестно откуда взявшаяся строчка: «Не повезут поэта лошади... Не повезут поэта лошади... Не повезут поэта лошади, век даст авто для катафалка». Вспомнил, это ж Северянин, поэт эго-футурист. Бог мой, что за придурь! Только задумался, влетел Семен Семенович.
— Господин Бондарев... Скорей, скорей!
— Что скорей? Семен Семенович, успокойтесь.
— Бунт будет! Бунт!
— Какой бунт, что вы?
— Дмитрий Дмитриевич! Неровен час. Может, уедете, а? Макаровского, Сергея Осиповича, только что на тачке вывезли. На берег и скинули там!
— За что они Сергея Осиповича?
— Скорей! Скорей! Дмитрий Дмитриевич. Он им сказал, что они, видите ли, господи, не умеют мыслить! Грозят по отношению к вам применить силу! Ну, давайте же! Выйдем отсюда...
— Это еще зачем?
— Дмитрий Дмитриевич... Господин Бондарев! Я не могу гарантировать вам неприкосновенность! Я...
— Идите, занимайтесь своими делами.
— Идут! — охнул Семен Семенович и выскользнул из кабинета.
В директорском кабинете было две двери. Одна в приемную в коридор, другая — на черную лестницу, спускавшуюся на заводской двор. Он редко пользовался черной лестницей, ему удобней было ходить на завод через проходную. Как и все.
От неожиданного шума он вздрогнул. К нему поднимались по черной лестнице. Идут! Он понял.
Еще можно было убежать вслед за Семеном Семеновичем, выскочить в приемную и закрыть тяжелую дверь на ключ. Пусть ломают! Можно было выхватить из ящика в столе револьвер, выстрелить для острастки. Это их остановило бы на время. А он бы ушел. Убежал. Спрятался куда-нибудь в коридоре, сжался в комочек. Он бы успел! Но вдруг наступила какая-то немощь. Как во сне. Нет ничего, а руки ватные и ноги ватные, и мыслей никаких, только свинцовый ужас. Идут! А ведь не верил. Его? За что?
Наверное, он плохо закрыл дверь на черную лестницу. Она открылась сразу. Поддали плечом, и она открылась, дверь, сама. Он встал. Его окружили.
— Гражданин директор, потрудитесь спуститься к рабочим! Народ говорить с вами хотит! — крикнул тот самый оратор, лицо которого показалось ему знакомым. — Масса желает с вами беседовать и получать разъясненья!
Теперь он точно вспомнил, что где-то видел его, но где? И улыбнулся, как знакомому. Улыбка получилась жалкая, не к месту. Зачем он улыбнулся?
— Я спущусь, — сказал. — Я спущусь, господа. Но только в том случае, если мне будет гарантирована неприкосновенность.
Оратор смотрел исподлобья недобрым, тяжелым взглядом, толкнул плечом.
— Ладно! Будет. Двигай давай вниз!
Его вывели на заводской двор, поставили на ящик.
— Пущай говорит!
— Крути мозги, поломой буржуйский!
— Давай его...
— Чего молчишь, кровосос? Как штрафы, дык не молчишь. Как что не молчишь!
Поднял руку. Сделалось тихо. Со стены сборочного корпуса свисал кабель. Почему не закрепили, ведь под напряжением...
— Господа рабочие! Граждане демократической России, — и откуда только слова взялись, — поймите, что ни я, ни администрация не всесильны. Давайте вместе проанализируем сложившуюся ситуацию...
— Ситуация...
— Тащи его, ребя! Улю-лю...
Ему не дали договорить. Десятки рук, будто по команде, рванулись к нему, подняли, как пушинку, понесли. Подкатили тачку, усадили с ногами, накрыли рогожей извазюканной, забрызганной известью. И повезли с гиканьем, с руганью до трамвайной остановки. Там скинули.
Он поднялся, растрепанный, грязный.
— Прихвость! Буржуйский подпевала.
— А ну, вались! А ну, пшел!
Какой-то дядечка, хихикая и кривляясь, сунул ему в руки пятак.
— На дорожку на. На дорожку... Хе-хе, на дороженьку...
Надо было швырнуть ему в поганую его рожу этот пятак! В морду, растянутую в щучьей улыбке. А он не швырнул. Не смог и не посмел. И табу: это ж простой народ — нельзя.
Позванивая, подкатил трамвай, шагнул на подножку. В окне увидел свой «протос», Кузяев спешил на завод. Хотел крикнуть, заколотить кулаками по стеклу. Кузяев! Но не крикнул, не заколотил, ничего. Трамвай тронулся, мотаясь. Подошел кондуктор, издали уже смотрел с любопытством: «Ваш билет? — Он разжал ладонь, протянул пятак. — Грязным в транвай неззя, обтерлись бы, барин, раз вы пассажир». — «Оботрусь», — сказал и заплакал, закрыв лицо руками.
Вечером у Трепьева в хозяйской половине, где жил сам огородник и его жена Дуся, собрались все постояльцы. Такое дело, слухи пошли, что завод закрывают! Паша́ заволновался.
— Выходит, зря царя скинули! Хоть какой, а все ж порядок был, не сравнить... Дилехтора, понимашь, на тачке... Дилехтора!
— Анархизма, — соглашался Петр Егорович, — анархизма, да. Настоящий рабочий такого сделать не мог. Это сезонники...
— Так и что же будет теперя-то? А? Керенского ругают.
— Иди ты со своим Херенским.
— Не дело, конечно, — продолжал Петр Егорович. — Мы резолюцию приняли, чтобы извинились перед Бондаревым, написали, что насилие, допущенное рабочими в пылу невероятного раздражения и озлобления, считать грубой ошибкой и впредь явлением совершенно недопустимым. И домой к нему направили с делегацией.
— А он?
— А он на завод возвращаться отказался!
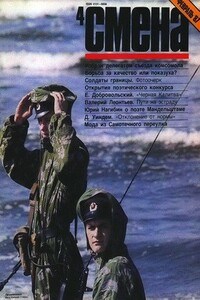
Война — не женская работа, но с некоторых пор старший батальонный комиссар ловил себя на том, что ни один мужчина не сможет так вести себя за телеграфным аппаратом, как эти девчонки, когда стоит рядом командир штаба, нервничает, говорит быстро, а то и словцо русское крылатое ввернет поэнергичней, которое пропустить следует, а все остальное надо передать быстро, без искажений, понимая военную терминологию, это тебе не «жду, целую, встречай!» — это война, судьба миллионов…

В этой книге три части, объединенные исторически и композиционно. В основу положены реальные события и судьбы большой рабочей семьи Кузяевых, родоначальник которой был шофером у купцов Рябушинских, строивших АМО, а сын его стал заместителем генерального директора ЗИЛа. В жизни семьи Кузяевых отразилась история страны — индустриализация, война, восстановление, реконструкция… Сыновья и дочери шофера Кузяева — люди сложной судьбы, их биографии складываются непросто и прочно, как складывалось автомобильное дело, которому все они служили и служат по сей день.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».