Зеленая стрела удачи - [129]
— Митя! — воскликнула она, узнав в подтянутом капитане того мальчика, что знал наизусть характеристики всех автомобилей, участвовавших в испытательном пробеге 1912 года. — Митя!
Это был сын Дмитрия Дмитриевича Бондарева, Митя Бондарев, студент Василия Ивановича.
В то утро он повез своего профессора и его жену на дачу в Кубинку. Василий Иванович был очень болен. Он сидел рядом с шофером, а они с Ксенией Петровной в кузове, и Ксения Петровна все заглядывала в кабину, волновалась за мужа. «Митя, он совсем стал стареньким...»
Капитан помог сгрузить вещи, и, глядя на него, профессор Строганов разрыдался.
— Какая ж это несправедливость, что отец твой не дожил... Ему бы тебя увидеть таким, Митя... Дай я поцелую тебя. Подойди, Митя. Россия вспомнит твоего отца, она не забудет. Он был великим русским человеком. Она вспомнит... Народ вспомнит... Митьку Бондарева, Дмитрия Дмитриевича... Сына верного...
И опять же законы хроники заставляют сказать несколько слов еще об одном офицере, танкисте, лейтенанте Коле Строганове. Может быть, в то утро накануне грандиозного танкового сражения под Прохоровкой он лежал на траве возле своей тридцатьчетверки, молодой, нетерпеливый, читал стихи. Блока он любил.
Это было накануне его самого последнего боя. Летом сорок третьего года родителям в Кубинку привезут похоронку. А действие нашей хроники возвращается назад, в 29-й год, когда Степа Кузяев вместе с бригадой решил работать по-ударному.
Итак, в 1929 году, в один из тех зимних дней, когда с утра тает, а к вечеру морозит, бессменный директорский шофер Петр Платонович Кузяев пользовался отгулом за прошлый месяц. Он отдыхал — высыпался, брился, ставил самоварчик, сдерживая нетерпение, заваривал чаек, ждал, когда кипяток окрасится в густой цвет, доставал с полки любимую свою кружечку весом в четыре фунта, никак не меньше, насыпал в сахарницу колотый сахарок, открывал клетку, в которой жил кенарь по прозвищу «Дядя Гоша», и усаживался не спеша, решив чаевничать капитально.
Птицами шофер Кузяев занялся совершенно случайно. Заехал как-то на Самотеку, на старые свои места, попал на птичий торг на Трубе и домой вернулся с чижом и со скворцом. Привез пернатых. Затем подкупил двух синичек, щегла, зеленого попугайчика Феньку и кенаря «Дядю Гошу», которого полюбил необычайно.
Кенарь был желтый, как желток, и умный — жуть! «Дядя Гоша» сидел в своей клетке, помалкивал, но стоило Петру Платоновичу выставить на стол самовар, он начинал заметно волноваться, косил глазом.
Петр Платонович, как ни в чем не бывало, схлебывал из блюдца чай, а сам тихонечко свободной рукой пощелкивал сахарными щипчиками. Давал звук.
«Дядя Гоша» пулей вылетал из клетки, садился на стол, на перевернутый там стакан или на сахарницу, и отряхнувшись начинал петь.
Темнело за окном, паровозно пыхтел самовар, а желтый кенарь без устали выводил звонкие рулады, вспоминая Канарские острова, далекую свою родину, где на песчаных пляжах на берегу растут пальмы и голубые волны выносят в белой пене перламутровые раковины, из которых потом делают пуговицы и продают в галантерейных лавках.
Под веселый птичий щебет вспоминалась морская служба, Бискайский залив, дымы английской эскадры, растаявшей на траверзе Канарских островов, поход вокруг Африки, Мадагаскар, стоянка в Носси-Бэ...
Осенью приезжала погостить Настя, посмотрела на птиц, послушала кенаря, сказала:
— Живешь, отец, как оно в раю! Каженный день ангельско тебе пенье.
— А то!
— В уголке вон свободное место у тебя, можно еще одну клетку ставить.
— Чего ж... Можно, пожалуй.
— Поспеши, отец. Все птички у тебя уже есть, одной только и не хватает. Вороны. Грязи мало.
Петр Платонович обиделся, но дня через два Насте понравились и «Дядя Гоша», и Фенька, она и в деревне собралась таких птичек завести, и Петр Платонович забыл ее обидные слова насчет вороны. Глупые, между прочим, слова.
Кузяев пил чай, слушал кенаря, гостей не ждал. В дверь постучали.
— А и кто? — спросил Петр Платонович, ставя блюдце на стол. — Не замкнуто!
Дверь открылась и в комнату шагнул высокий мужчина в бекеше и смушковой шапке.
— Не признаешь, Кузяев?
— Виноват буду...
— Как же так, Петруша, флотских своих забывать. Дело разве?
— Колька! Никак ты! Живой! Смотри, господи, какими путями, садись давай, гостем, вот чай пью. Ну и раздался ж ты... — Петр Платонович помог гостю раздеться, дал веничек отряхнуть снег от фасонистых фетровых бурок. — Присаживайся, Николай Ильич, прополощем кишочки наши старые. Чай только заваренный...
— Дело у меня к тебе.
— Жизнь такая. А поматерел ты, поматерел, полковником выглядываешь. У всех дела. Садись, присаживайся. Чаю попьем. Хошь вприкуску, хошь внакладку. Если шамать хочешь, сейчас сообразим. Сало есть, братан выбирал. Мишку помнишь?
Постарел Коля, обрюзг. Волос поубавилось, а зубы хоть и золотые, но ведь не свои.
— Чай попивай, пока горячий, и о деле давай, если приперло. Вот уж не думал свидеться в момент...
— Трудно о деле под чай говорить, — Николай Ильич наклонился, достал из-под стола бутылку, и это ж как он ее успел туда незаметно сунуть! Ловок! Всегда ловок был! — Со встречей, Петр Платонович. Аш два о, воду то есть из чашки выплесни, я лимончиком запасся, порежь, и рыбка у меня в кармане.
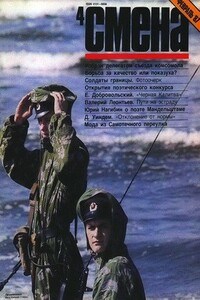
Война — не женская работа, но с некоторых пор старший батальонный комиссар ловил себя на том, что ни один мужчина не сможет так вести себя за телеграфным аппаратом, как эти девчонки, когда стоит рядом командир штаба, нервничает, говорит быстро, а то и словцо русское крылатое ввернет поэнергичней, которое пропустить следует, а все остальное надо передать быстро, без искажений, понимая военную терминологию, это тебе не «жду, целую, встречай!» — это война, судьба миллионов…

В этой книге три части, объединенные исторически и композиционно. В основу положены реальные события и судьбы большой рабочей семьи Кузяевых, родоначальник которой был шофером у купцов Рябушинских, строивших АМО, а сын его стал заместителем генерального директора ЗИЛа. В жизни семьи Кузяевых отразилась история страны — индустриализация, война, восстановление, реконструкция… Сыновья и дочери шофера Кузяева — люди сложной судьбы, их биографии складываются непросто и прочно, как складывалось автомобильное дело, которому все они служили и служат по сей день.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».