Зависимость - [19]
Пока мы сидим в убежище, я начинаю мерзнуть и застегиваю бумазейную куртку до самого верха. Так холодно, что начинают стучать зубы. Кажется, у меня лихорадка, говорю я Эббе. Воздушная тревога прекращается, и мы поднимаемся обратно в квартиру. Замеряю температуру: на градуснике — сорок. Эббе выходит из себя. Звони врачу, требует он настойчиво, нужно срочно в больницу. От лихорадки я ощущаю себя немного пьяной. Не сейчас же, смеюсь я, не посреди ночи. Иначе об этом узнают его жена и дети. Последнее, что я вижу, прежде чем заснуть, — Эббе мечется взад и вперед, яростно накручивая волосы на пальцы. Избавь меня от этого, бормочет он в отчаянии, избавь меня от этого. А знаешь, произношу я, этот Яльмар — он тоже подвергает твою жизнь опасности.
Рано утром я звоню доктору Лауритцену и сообщаю, что у меня температура сорок и пять, но нет ни вод, ни крови. Они еще будут, обещает он любезно, идите в больницу прямо сейчас, я позвоню и предупрежу о вашем приходе. Но медсестре — ни слова, договорились? Вы беременны, у вас поднялась температура, вот и всё. И не бойтесь, всё обойдется.
Это хорошая больница на улице Кристиана IХ. Меня принимает главная медсестра — добродушная, по-матерински заботливая пожилая женщина. Возможно, говорит она, ребенка спасти не удастся, но мы сделаем всё возможное. Ее слова приводят меня в отчаяние, и так как я попадаю в двуместную палату, то поднимаюсь на локтях, чтобы рассмотреть женщину на соседней койке: она на пять-шесть лет старше меня, над белоснежной рубашкой — милое доверчивое лицо. Ее зовут Тутти, и, к моему удивлению, она оказывается девушкой Мортена Нильсена. Он — отец ребенка, которого они ждут. Она разведена, по профессии архитектор, и у нее уже есть шестилетняя дочка. Проходит всего час — а мы уже словно знакомы всю жизнь. Посреди комнаты стоит рождественская елка с позванивающими стеклянными игрушками и звездой наверху. В таких обстоятельствах это кажется совершенным безумием. Когда я была маленькой, рассказываю я Тутти в лихорадочном полубреду, я считала, что звезда шестиконечная. Включается свет, и появляется медсестра с двумя подносами для каждой из нас. Я до сих пор не выношу вида и запаха еды, поэтому к ней не притрагиваюсь. Пошла кровь? — спрашивает медсестра. Нет, отвечаю я. На случай, если ночью откроется кровотечение, она оставляет ведро и марлевые прокладки. Милый Бог, думаю я исступленно, дай мне хоть капельку крови. Когда убирают подносы, приходит Эббе, и чуть погодя объявляется Мортен. Привет, с удивлением здоровается он, что, ради всего святого, ты тут делаешь? Он садится на кровать Тутти, и они, перешептываясь, исчезают в объятиях друг друга. У Эббе с собой двадцать таблеток хинина, которые передала Надя. Выпей их только в случае необходимости, просит Эббе. Когда Мортен уходит, я рассказываю Тутти, что Надя однажды вытравила плод с помощью хинина. Тутти не видит никаких причин, чтобы не принимать таблетки, что я и делаю. Дежурная медсестра входит, гасит верхний свет и включает настенные лампы, их голубое сияние наполняет комнату искусственным призрачным светом. Я не могу заснуть, но, когда пытаюсь сказать что-либо Тутти, совсем не слышу собственного голоса. Я говорю громче, но всё равно ничего не слышу. Тутти, кричу я в ужасе, я оглохла. Вижу, как Тутти шевелит губами, но и ее не слышу. Погромче, умоляю я. Тогда она орет: не нужно так кричать, я-то не глухая. Во всем виноваты таблетки, но это должно пройти.
У меня свистит в ушах, а за свистом — ватообразная судьбоносная тишина. Может быть, я оглохла навсегда и совершенно напрасно: кровотечение до сих пор не началось. Тутти встает с кровати и, подойдя ко мне, кричит в самое ухо: им всего-навсего нужно увидеть кровь, и больше ничего. Подложу тебе мои использованные прокладки, и ты просто покажешь их рано утром. Тогда тебе сделают выскабливание. Говори погромче, кричу я отчаянно — только так мне удается расслышать ее слова. Всю ночь она преданно кладет свои использованные прокладки в мое ведро. Когда она проходит мимо рождественской елки, маленькие стеклянные игрушки ударяются одна о другую, и я знаю, что они звенят, хотя и не слышу этого. Я думаю об Эббе, о Мортене, об общем для них выражении потерянности в этом женском мире, наполненном кровью, тошнотой и температурой. Я вспоминаю Рождество моего детства, когда мы пели вокруг дерева «Мы пришли из глубины»[12] вместо псалма. Думаю о маме и ее отвратительном касторовом масле. Она и не подозревает, что я лежу здесь, потому что не умеет хранить секреты. Думаю и об отце, который всегда был тугим на ухо — это у него в роду. Глухие, должно быть, живут в совершенно закрытом, изолированном мире. Может быть, мне придется носить слуховой аппарат. Но моя глухота — ничто по сравнению с актом милосердия Тутти. Им хорошо известно, что здесь происходит, вопит она мне на ухо, им просто нужно соблюдать внешние приличия.
Под утро мы засыпаем, изнуренные, и спим, пока медсестра не приходит нас будить. Ничего себе, сколько крови, произносит она с притворным беспокойством и заглядывает в ведро с ночным урожаем. Боюсь, ребенка уже не спасти. Я сейчас же позвоню главному врачу. К моему облегчению, я осознаю, что слух вернулся. Вы очень этим опечалены? — спрашивает медсестра. Немного, лгу я и пытаюсь скорчить огорченную мину.

Тове знает, что она неудачница и ее детство сделали совсем для другой девочки, которой оно пришлось бы в самый раз. Она очарована своей рыжеволосой подругой Рут, живущей по соседству и знающей все секреты мира взрослых. Но Тове никогда по-настоящему не рассказывает о себе ни ей, ни кому-либо еще, потому что другие не выносят «песен в моем сердце и гирлянд слов в моей душе». Она знает, что у нее есть призвание и что однажды ей неизбежно придется покинуть узкую улицу своего детства.«Детство» – первая часть «копенгагенской трилогии», читающаяся как самостоятельный роман воспитания.
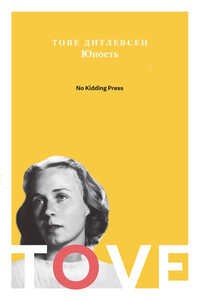
Тове приходится рано оставить учебу, чтобы начать себя обеспечивать. Одна низкооплачиваемая работа сменяет другую. Ее юность — «не более чем простой изъян и помеха», и, как и прежде, Тове жаждет поэзии, любви и настоящей жизни. Пока Европа погружается в войну, она сталкивается со вздорными начальниками, ходит на танцы с новой подругой, снимает свою первую комнату, пишет «настоящие, зрелые» стихи и остается полной решимости в своем стремлении к независимости и поэтическому признанию.

Рассказы в предлагаемом вниманию читателя сборнике освещают весьма актуальную сегодня тему межкультурной коммуникации в самых разных её аспектах: от особенностей любовно-романтических отношений между представителями различных культур до личных впечатлений автора от зарубежных встреч и поездок. А поскольку большинство текстов написано во время многочисленных и иногда весьма продолжительных перелётов автора, сборник так и называется «Полёт фантазии, фантазии в полёте».

Побывав в горах однажды, вы или безнадёжно заболеете ими, или навсегда останетесь к ним равнодушны. После первого знакомства с ними у автора появились симптомы горного синдрома, которые быстро развились и надолго закрепились. В итоге эмоции, пережитые в горах Испании, Греции, Швеции, России, и мысли, возникшие после походов, легли на бумагу, а чуть позже стали частью этого сборника очерков.

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.

Перед вами грустная, а порой, даже ужасающая история воспоминаний автора о реалиях белоруской армии, в которой ему «посчастливилось» побывать. Сюжет представлен в виде коротких, отрывистых заметок, охватывающих год службы в рядах вооружённых сил Республики Беларусь. Драма о переживаниях, раздумьях и злоключениях человека, оказавшегося в агрессивно-экстремальной среде.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.