Заветные поляны - [19]
Когда в детский дом устроили, я обрадовался. Переводам из одного детдома в другой тоже радовался: никто не найдет. Врать начал. Один раз ловко получилось: затерялись бумаги, фамилию спрашивают — назвался Ивановым. Сказал, что родителей не помню, родственников в живых нет. Даже ребятишкам не признался как есть, а придумывал все. А годы шли. Длинная дорога прожитых лет получилась…
Однажды в студенческое общежитие принесли телеграмму:
«Братишка дорогой! Митяня! Нашел я тебя! Если это точно, приезжай. Из родных ты у меня один остался. Приезжай. Дорогу домой знаешь. Твой брат Николай».
Брат встретил меня на вокзале. Подбежал, глядит жалобно, будто просит чего — все пиджак на себе поправлял непослушными руками. Синий такой пиджак в дорожку, на нем еще значок был какой-то красненький приколот… Этого суетливого, почти незнакомого человека я и не мог назвать братом, будто бы имени его не помнил. А он дивился: «Ах ты какой вырос. Хорош! Можно гордиться тобой». Я видел в его глазах слезы… От станции до попутного поселка — оказывается, он жил там — ехали долго в автобусе. Николай обо всем успел расспросить, как жизнь у меня идет. А я о нем почти ничего не знал, невелик был, когда нас разнесло, — кроме того, что слышал от злых и добрых людей, от бабки Матрены, которая вообще-то его поступок тоже не одобряла и считала, что с детства он был своевольный, характерный очень. Я не задавал вопросов. Некоторое время мы неловко молчали. Темнота осенней ночи была кстати…
Отказавшись от ужина, чтобы не тревожить его семейство, мы сидели на сеновале, глядели на крышу, похожую на огромное решето, ждали, когда просветлеет небо, стихнут ненастный ветер, шум дождя. Забрезжил рассвет, и мы пешком отправились в деревню. Тут-то брат и разговорился.
— Когда отец погиб, ты невелик был. Я-то уже понимание имел. Решил жить так, чтобы люди видели: у Барцева — сын достойный. Отец наш горяч до работы, все его таким помнят. И я тянулся… Ох как тогда работали! И не за трудодень. За подъем жизни. Мы, подростки, мужицкую ношу на себя взвалили. Работал от темна до темна. Домой, бывало, на ощупь тащишься. А еда? Настоящего-то хлеба и не едали… Мама все в труде: днем — в поле, вечером — на ферме, ночью — на своем огороде. Вы, троица, — желторотые… Тяжело жили. Трудно и терпеливо. Было чего ждать.
Я привыкал к голосу брата. И слушал без вопросов, не подторапливал, когда он надолго умолкал.
В год Победы перед самой жатвой общее собрание решило назначить Николая кладовщиком на место Пашки Скрябина, фронтового инвалида, занемог фронтовик совсем. Мать говорила, Коля молод еще, не сообразит и надорваться может. «Управится, — сказал бригадир Лапшин, — грудь у него колесом, как у петуха». И по-доброму вроде бы усмехнулся. Так и принял ключи Николай Барцев. А с ними — перемену в жизни. Серьезное дело-то поручили — заведовать зерном. Молотьба началась. Хлеб пошел. Рожь убирали…
— Мешки ворочаешь, а мнится — огромные ржаные караваи носишь… В поле, на току, в овинах, в складах и по всей деревне хлебный дух… Только в избах не было этого запаха. В печах тогда хлеба не пекли, не из чего. Весь хлеб — на отправку. А думалось по молодости: как это так — в хлебе стоишь, хлеб свой в руках держишь, а поесть досыта не приходится? Хоть бы лепешек общих испечь в одной печи на всю деревню, детей малых накормить. Не доходил тогда умом, что отправляем для общей силы народной.
Каждый день перегребал в складах зерно, чтобы не слежалось. Но домой ни горсточки не приносил, хоть бы на кашку. Решился, предложил руководству колхоза: надо порадовать людей свежим хлебом. Правление постановило неофициально на первый раз по пятьсот граммов на едока пшенички выдать. По списку… В каждую избу, получалось, на пирожки, на лепешки, чтоб детей порадовать. Ночью выдавали, понятно, крадучись. Строго тогда с этим делом было. А ведомость велели подальше от склада надежно припрятать: «Пригодится, когда станем за год «бабки» подбивать, бог даст, что-нибудь на трудодни-то достанется, вот и вычтется полученное». Я свою фамилию тоже внес и получил соответственно два с половиной килограмма пшеницы. Подвел итог: на всех — восемьдесят четыре с половиной килограмма. Невелика деревня была…
Выдали, значит, хлебную радость в каждый дом. А под это дело бригадир подмазался. Мелетий Степанович, Лапшин-то, пришел, мешок подсовывает: «Нагреби при темце и выставь за угол».
«Чего? — я заорал. — Чего тебе? Ворюга!!!» Лапшин мне лапищей по уху: «Замри, мышонок! Молодец, Колюха. Проверить, говорит, решил, как добро колхозное бережешь!..»
Николай остановился. Достал кисет, но в нем не было махорки — кончилась. Я предложил студенческие «гвоздики» — тоненькие желтоватые папироски. Брат закурил.
Настороженно относился бригадир к молодому кладовщику. С чего бы это ему на юнца коситься? Он тогда с Манькой Дратвиной путался, бабник был Лапшин, об этом я и от бабки Матрены слышал. А Николай наткнулся на них однажды. Пошел в овин крохи подметать и наткнулся. Никому ничего не сказал, а по деревне слушок прошел. Лапшин подумал, что Николай растрепал. И это, наверно, сыграло. Давил, значит, бригадир на кладовщика. А Николай колючий был. Чуть что — сразу в ерша. Нечего бояться. Делай по чести-совести! А Мелетий ловчил, учил, чтоб мухлевал кладовщик. И раз, и другой — подсказки. Второй, значит, заход на него, теперь уже лисой. Ночью на току они вдвоем ворох убирали… Посчитал Николай мешки, видит, двух не хватает. Туда-сюда. Оказывается, их за угол Лапшин припрятал. Кладовщик выволок мешки и — в склад. А бригадир: «Не трожь. Это я припас. Не твоего ума дело». Николай оттолкнул Лапшина, тот свалил его навзничь и засмеялся. Николай в темноте ему под ноги… рванул — и бригадир затылком о косяк… Вскочил, Николая за ворот, а сам — в крик: «Вора поймал, вора!» Сбежался народ. Утром обыск организовали… В нашем дому — мама родная! — в хлевушке-то у нас полмешка ржи обнаружилось. Как, что, откуда? Николаю не понятно. Предположил: Лапшин сработал, чтоб подозренье от себя отвести, а может быть, даже сгубить хотел свидетеля. Николая арестовали, как вора, к тому же он оказал сопротивление при задержании… Бабенки всхлипывали. Николай долго молчал сначала и вдруг выкрикнул: «Не было этого, не было! Получил, что по списку положено». И насторожил приехавших с разбором:
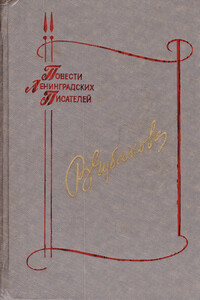
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В третий том вошли произведения, написанные в 1927–1936 гг.: «Живая вода», «Старый полоз», «Верховод», «Гриф и Граф», «Мелкий собственник», «Сливы, вишни, черешни» и др.Художник П. Пинкисевич.http://ruslit.traumlibrary.net.

Поэт Константин Ваншенкин хорошо знаком читателю. Как прозаик Ваншенкин еще мало известен. «Большие пожары» — его первое крупное прозаическое произведение. В этой книге, как всегда, автор пишет о том, что ему близко и дорого, о тех, с кем он шагал в солдатской шинели по поенным дорогам. Герои книги — бывшие парашютисты-десантники, работающие в тайге на тушении лесных пожаров. И хотя люди эти очень разные и у каждого из них своя судьба, свои воспоминания, свои мечты, свой духовный мир, их объединяет чувство ответственности перед будущим, чувство гражданского и товарищеского долга.

Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.В эту книгу вошла проза военных лет, в том числе рассказы «Афродита», «Возвращение», «Взыскание погибших», «Оборона Семидворья», «Одухотворенные люди».К сожалению, в файле отсутствует часть произведений.http://ruslit.traumlibrary.net.

Лев Аркадьевич Экономов родился в 1925 году. Рос и учился в Ярославле.В 1942 году ушел добровольцем в Советскую Армию, участвовал в Отечественной войне.Был сначала авиационным механиком в штурмовом полку, потом воздушным стрелком.В 1952 году окончил литературный факультет Ярославского педагогического института.После демобилизации в 1950 году начал работать в областных газетах «Северный рабочий», «Юность», а потом в Москве в газете «Советский спорт».Писал очерки, корреспонденции, рассказы. В газете «Советская авиация» была опубликована повесть Л.

… Шофёр рассказывал всякие страшные истории, связанные с гололедицей, и обещал показать место, где утром того дня перевернулась в кювет полуторка. Но оказалось, что тормоза нашей «Победы» работают плохо, и притормозить у места утренней аварии шофёру не удалось.— Ничего, — успокоил он нас, со скоростью в шестьдесят километров выходя на очередной вираж. — Без тормозов в гололедицу даже лучше. Газком оно безопасней работать. От тормозов и все неприятности. Тормознёшь, занесёт и…— Высечь бы тебя, — мечтательно сказал мой попутчик…
![Улыбка прощальная ; Рябиновая Гряда [повести]](/storage/book-covers/b4/b441843207b938ffce8d8d6e7fb5925012591093.jpg)
«Рябиновая Гряда» — новая книга писателя Александра Еремина. Все здесь, начиная от оригинального, поэтичного названия и кончая удачно найденной формой повествования, говорит о самобытности автора. Повесть, давшая название сборнику, — на удивление гармонична. В ней рассказывается о простой русской женщине, Татьяне Камышиной, о ее удивительной скромности, мягкости, врожденной теплоте, тактичности и искренней, неподдельной, негромкой любви к жизни, к родимому уголку на земле, называемому Рябиновой Грядой.
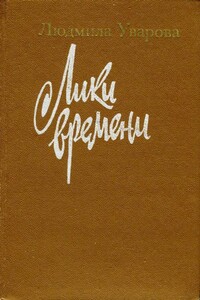
В новую книгу Людмилы Уваровой вошли повести «Звездный час», «Притча о правде», «Сегодня, завтра и вчера», «Мисс Уланский переулок», «Поздняя встреча». Произведения Л. Уваровой населены людьми нелегкой судьбы, прошедшими сложный жизненный путь. Они показаны такими, каковы в жизни, со своими слабостями и достоинствами, каждый со своим характером.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.