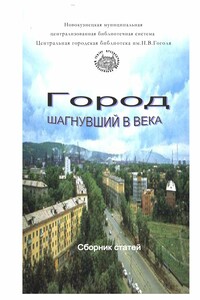Западный канон - [53]
Дон Кихот и Санчо Панса — идеальные собеседники; они меняются, слушая друг друга. У Шекспира изменение происходит от того, что герой слышит себя со стороны и размышляет над неявными смыслами услышанного. Ни Дон Кихот, ни Санчо не способны слышать себя; идеализм Дон Кихота и реализм Санчо слишком сильны, чтобы их носители могли в них усомниться, поэтому те не умеют уяснить свои отступления от своих правил. Они могут кощунствовать и не сознавать этого. Трагическое величие героев Шекспира распространяется на комический, исторический и мелодраматический жанры; лишь в кульминационных сценах узнавания оставшиеся в живых могут расслышать слова других. Влияние Шекспира превзошло влияние Сервантеса, и не только в англоговорящих странах. С Шекспира (даже раньше, с Петрарки) начинается современный солипсизм. Данте, Сервантес, Мольер, у которых все — в диалогах между действующими лицами, кажутся менее естественными, чем Шекспир в своем великолепном солипсизме, и, может быть, они и вправду менее естественны.
У Шекспира нет подобия разговоров между Дон Кихотом и Санчо Пансой, поскольку у него друзья и любовники никогда толком друг друга не слушают. Вспомним сцену смерти Антония, в которой Клеопатра слушает и слышит в основном себя, или попытку игры между Фальстафом и Гарри, когда Фальстафу приходится обороняться, потому что принц непрерывно нападает. Есть приятные исключения, вроде Розалинды и Селии из «Как вам это понравится», но это не норма. Индивидуальность у Шекспира не имеет себе равных, но обходится невероятно дорого. Эгоизм Сервантеса, превознесенный Унамуно, смягчается свободными взаимоотношениями Санчо и Дон Кихота, которые уступают друг другу пространство для игры. И Сервантес, и Шекспир создавали превосходные личности, но величайшие личности Шекспира — Гамлет, Лир, Яго, Шейлок, Фальстаф, Клеопатра, Просперо — в конце концов великолепно увядают в атмосфере внутреннего одиночества. Дон Кихота спасает Санчо, а Санчо — Дон Кихот. Их дружба канонична и отчасти меняет «дальнейшую» природу канона.
Что есть безумие, если того, кто им страдает, не может обмануть ни мужчина, ни женщина? Дон Кихота не использует в своих интересах никто, и самого Дон Кихота это тоже касается. Он принимает мельницы за великанов, а кукольное представление — за правду, но насмехаться над ним не стоит, потому что он сам вас высмеет. Его безумие — это безумие литературное; его можно с пользой противопоставить лишь частично литературному безумию героя великой рыцарской сказки[176] «Роланд до Замка черного дошел»[177]. Дон Кихот безумен оттого, что его великий прообраз, Орландо (Роланд) из Ариостова «Неистового Роланда», впал в эротическое помешательство. То же, как сообщает Дон Кихот Санчо, сталось и с Амадисом Галльским, другим его героическим предшественником.
Роланд Браунинга желает лишь «быть достойным потерпеть поражение», как один за другим терпели его предыдущие поэты-рыцари, отправлявшиеся на поиски Черного Замка[178]. Дон Кихот куда здоровее; он хочет победить — сколько бы раз он ни терпел болезненное фиаско. Его безумие, как он ясно дает понять, — это поэтическая стратегия, выработанная другими, а сам он — всего лишь приверженец традиции.
Сервантес остерегался слишком близких предшественников-испанцев; самое близкое родство у него — с конверсо Фернандо де Рохасом, автором великой драматизированной новеллы «Селестина» — сочинения не вполне католического по духу ввиду своего дикого аморализма и отсутствия богословских предпосылок. Сервантес заметил, что это «прямо божественная книга, не будь она такой голой»[179], явно имея в виду то, что человеческая сексуальность не терпит никаких моральных ограничений. Дон Кихот, понятно, накладывает моральные ограничения на свои сексуальные желания до такой степени, что мог бы стать и священником — которым, по Унамуно, он по-настоящему и был: священником настоящей испанской церкви, церкви кихотической. Пыл, с которым Дон Кихот все время рвется в бой, как бы неравны ни были силы, — определенно, результат сублимации сексуального влечения. Смутный объект его желания, зачарованная Дульсинея — символ славы, которой добиваются посредством насилия, неизменно сводимого Сервантесом к абсурду. Уцелевший при Лепанто и в других битвах, а также в плену у мавров и потом — в испанских тюрьмах (где, возможно, был начат «Дон Кихот»), Сервантес не понаслышке знал, что такое битва и неволя. От нас требуется относиться к Дон Кихотову вызывающему героизму одновременно с великим уважением и существенной ироний: эта установка Сервантеса с трудом поддается анализу. Как бы возмутительны ни были проявления храбрости Дон Кихота, в ней с ним не сумеет сравниться ни один другой герой западной литературы.
Чтобы напрямую подступиться к величию «Дон Кихота», исследователю тоже не помешает храбрость. Сервантес, при всей своей иронии, влюблен в Дон Кихота и Санчо Пансу — как и всякий любящий чтение читатель. В жизни объяснение любви — занятие тщетное, поскольку там слово «любовь» означает все и ничего, но в случае величайшей литературы оно должно быть возможно. В этом отношении Сервантес, возможно, подошел к универсальному даже ближе, чем Шекспир, так как я с недоумением вижу, что мою горячую любовь к единственному сопернику Дон Кихота среди странствующих рыцарей, сэру Джону Фальстафу, разделяют не все мои студенты, не говоря уже о большинстве моих коллег-преподавателей. Никому не приходит в голову называть Дон Кихота «пьяным, отвратительным старым негодяем», как заклеймил Фальстафа Бернард Шоу, но всегда найдутся исследователи Сервантеса, которые будут упорно вешать на Дон Кихота ярлык глупца и безумца и говорить нам, что Сервантес высмеивает «неумеренный эгоцентризм» своего героя. Будь это так, не было бы книги — кому охота читать про Алонсо Кихано Доброго? В конце он, разочаровавшись, умирает набожно и здравомысленно, неизменно напоминая мне тех друзей моей юности, которые прошли через десятилетия бесконечного психоанализа
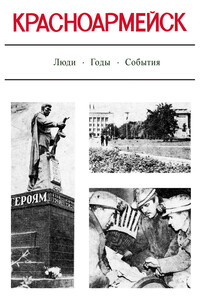
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
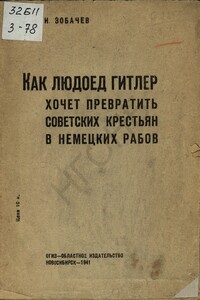
На страницах агитационной брошюры рассказывается о коварных планах германских фашистов поработить народы СССР и о зверствах, с которыми гитлеровцы осуществляют эти планы на временно оккупированных территориях Советского Союза.
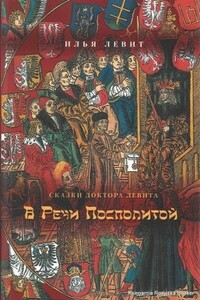
«В Речи Посполитой» — третья книга из серии «Сказки доктора Левита». Как и две предыдущие — «Беспокойные герои» («Гешарим», 2004) и «От Андалусии до Нью-Йорка» («Ретро», 2007) — эта книга посвящена истории евреев. В центре внимания автора евреи Речи Посполитой — средневековой Польши. События еврейской истории рассматриваются и объясняются в контексте истории других народов и этнических групп этого региона: поляков, литовцев, украинцев, русских, татар, турок, шведов, казаков и других.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.