Западный канон - [45]
О том, что Чосер и сам гордился созданием Ткачихи, мы знаем из его короткого позднего стихотворения, адресованного его другу Бактону, в котором он говорит о «горе и беде, что суть в браке» и ссылается на нее как на авторитет:
Знакомство с «доброй Ткачихой»[140] в Общем прологе к «Кентерберийским рассказам», конечно, нас впечатляет, но все-таки мы оказываемся не совсем готовы к встрече с той бой-бабой, какой она предстает в прологе к своему рассказу, хотя повествователь сразу намекает нам на ее буйную сексуальность. Она глуховата — почему, мы узнаем позже; чулки на ней красные; лицо наглое, пригожее, под цвет чулок; как всем известно, она недосчитывается зубов и, соответственно, похотлива[141], она пережила пятерых мужей (не считая гурьбы дружков) и пользуется определенной известностью среди паломников и в Англии, и за ее пределами: аналог паломничества в наше грешное время — катания на «корабликах любви». Тем не менее все это лишь косвенно указывает на человека, хорошо «побродившего по свету», доку в «старом танце» любви[142]. Ее фальстафовское остроумие, ее феминистские взгляды (как сказали бы сегодня) и, прежде всего, ее фантастическая воля к жизни еще не совсем очевидны.
Ховард напоминает нам, что Чосер был вдовцом, когда создал Батскую ткачиху, и прозорливо добавляет, что ни один другой писатель после древних не обнаруживал такого понимания женской психологии и не описывал женщины с таким сочувствием. Я согласен с Ховардом в том, что Ткачиха — совершенное чудо, как бы ни ратовали против нее моралисты, хотя надо мной и реет тень самого внушительного ее противника — Уильяма Блейка, увидевшего в ней воплощение Женской Воли (как он это называл). В комментарии к своему изображению Кентерберийских паломников он отозвался о Ткачихе довольно резко, но она явно его пугала: «…она также бич и мор. Боле я ничего о ней не скажу и не раскрою того, что Чосер утаил; пусть юный читатель размышляет над тем, что он сказал о ней: это полезно, как полезно пугало. Рождайся на свет меньше таких особ, в мире было бы покойнее»[143].
Однако без таких персонажей в литературе было бы меньше жизни, а в жизни — меньше литературы. Пролог Батской ткачихи — это своего рода исповедь, но еще в большей мере — победительная защитная речь или апология. И, в отличие от пролога Продавца, ее напоминающая поток сознания речь не говорит нам о ней больше, чем известно ей самой. Ее пролог начинается со слова «опыт»[144], на который она ссылается как на авторитетную инстанцию. Для женщины быть пятикратной вдовой — что шестьсот лет назад, что теперь — значит иметь известную ауру; Ткачиха прекрасно это знает, но тем не менее залихватски объявляет, что с нетерпением ждет шестого замужества[145] и завидует премудрому царю Соломону с его тысячей партнерш (семьсот жен, триста наложниц). В Ткачихе более всего потрясают ее бесконечные задор и живость: сексуальная, словесная, полемическая. Ее жизнелюбие не имело прецедента в литературе, и ничто не могло сравниться с ним, пока Шекспир не создал Фальстафа. Законная литературная фантазия — представить себе встречу Ткачихи с толстым рыцарем. Фальстаф умнее и остроумнее Ткачихи, но даже он, со всем своим задором, не сумел бы ее утихомирить. Поразительным образом, у Чосера ее прерывает зловещий Продавец — но главным образом для того, чтобы поощрить ее к продолжению, и она продолжает. В «Короле Генрихе V» Шекспир описал (не изобразил) смерть Фальстафа; описать смерть Ткачихи не удалось бы даже Чосеру. И вот лучшее, что следует о ней сказать, отмахнувшись от хора исследователей-морализаторов: в ней есть только жизнь, постоянное благословение — больше жизни.
Как говорит Кармелит, вступление Ткачихи получилось длинным; оно состоит из более чем восьмисот строк, тогда как сам рассказ занимает всего четыреста и (увы) в художественном отношении несколько разочаровывает после мощных откровений. Но читатель, если он не настроен самим небом на морализаторство, хочет, чтобы ее пролог длился еще дольше, а рассказ оказался покороче. Чосера она попросту завораживает — так же как на другом уровне его зачаровывает Продавец: он знает, что эти персонажи вырвались на волю и диковинным образом идут своим путем: чудеса искусства, изображающие причуды природы. Я не знаю другого женского персонажа западной литературы, которого было бы труднее оспорить, чем Ткачиху, когда она протестует против последствий того, что почти все книги написаны мужчинами:
Многих исследователей-мужчин, порочивших Ткачиху, привела в ужас сильнодействующая смесь исповедальной честности и могучей сексуальности. Подразумеваемая ею критика церковных ступеней морального совершенства

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.
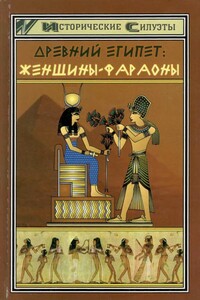
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.
