Западный канон - [39]
Беатриче — эманация не только гордости Данте, но и его нужды. Исследователи судят о том, что она означает и олицетворяет; я предлагаю задуматься над тем, что Беатриче позволила Данте обойти вниманием в своей поэме. Вико трогательно сожалел о том, что Данте был столь сведущ в богословии. Осведомленность Данте в духовных вопросах — это не проблема; проблема — осведомленность его толкователей. Не будь в «Комедии» Беатриче, Вергилию пришлось бы препоручить Данте кому-нибудь из святых, который бы и провел того из Земного Рая к Райской розе. Читательское сопротивление религиозности, которое и так, возможно, куда существеннее, чем готовы признать англо-американские дантоведы, несомненно, усилилось бы, если бы место Беатриче занял Блаженный Августин. Еще важнее то, что в таком случае усилилось бы и сопротивление Данте общепринятой доктрине. Совпадения между воззрениями Данте и католической верой — скорее видимость, чем реальность, но Данте ставит во главу угла Беатриче отчасти для того, чтобы ему не пришлось расходовать энергию воображения на ненужный конфликт с догмой.
Именно наличие и роль Беатриче превращают субстрат Августина и Фомы Аквинского в нечто куда более художественное, добавляют странности к истине (если считать написанное Данте истиной) или к вымыслу (если воспринимать это как вымысел). Лично я, интересуясь гнозисом, как поэтическим, так и религиозным, считаю эту поэму не истиной и не вымыслом, а Дантевым познанием, которому он решил дать имя Беатриче. Когда твое знание по-настоящему напряженно, ты не обязательно задумываешься над тем, истинно оно или ложно; ты прежде всего знаешь, что это знание по-настоящему твое. Иногда мы зовем такое знание «любовью», почти неизменно с уверенностью, что этот опыт постоянен. Чаще всего оно уходит и оставляет нас в недоумении, но мы не Данте и не можем написать «Комедию», поэтому все, что мы в конце концов знаем, — это утрата. Беатриче — это то, что отличает каноническое бессмертие от утраты, потому что, не будь ее, Данте был бы сейчас еще одним итальянским поэтом — предшественником Петрарки, умершим в изгнании, погубленным своими гордыней и пылом.
И христианское фэнтези Чарльза Уильямса, и его довольно несуразные стихи, и его беззастенчивая христианская апологетика вроде «Он сошел с небес» и «Схождения голубицы» вызывают у меня ощутимую неприязнь. Беспристрастным литературоведом Уильямса тоже не назовешь. Он по-своему не менее идеологизирован, чем неофеминисты, псевдомарксисты и редукционисты-франкофилы, из которых состоит наша Школа ресентимента. Но Уильямс — едва ли не единственный, кого можно отметить за восприятие Данте в первую очередь как создателя образа Беатриче:
Образ Беатриче существовал в его сознании; он не уходил оттуда и был намеренно обновлен. Слово «образ» тут уместно по двум причинам. Во-первых, субъективные воспоминания внутри него имели в основе своей нечто объективно существовавшее вовне, это был образ внешнего явления, а не внутреннего вожделения. Это было видение, а не измышление. Данте утверждает, что измыслить Беатриче ему бы не удалось.
Утверждение поэта — это его стихи, и Данте — не первый и не последний поэт, настаивавший на том, что он не измыслил нечто, а по-настоящему увидел. Пожалуй, Шекспир мог бы сказать то же самое об Имогене из «Цимбелина». Уильямс сравнивает Беатриче с Имогеной, но Беатриче, в отличие от пилигрима Данте и его проводника Вергилия, в отличие от Улисса из «Ада», не совсем литературный персонаж. У нее есть драматические свойства — например, проблескивает высокое негодование; но, будучи скорее целой поэмой, чем ее персонажем, она может быть постигнута читателем лишь после того, как тот прочтет и усвоит всю «Комедию» — чем, вероятно, и объясняется причудливая смутность (и это ни в коей мере не художественный изъян) образа Беатриче. Ее отрешенность, даже от своего поэта-возлюбленного, куда глубже, чем показывает Уильямс; Данте тщательно конструирует эту отрешенность, и она достигает апогея в тот пронзительный момент в «Рае», когда он видит Беатриче издалека:
Я поднял глаза и увидел ее в венце, отражавшем предвечный свет. От высочайшей области, где гремит гром, не бывает так отдален глаз смертного, даже если он затерян в глубинах моря, как был отдален мой взор от Беатриче; но это ничего не значило, ибо ее образ сошел ко мне, и ничто между нами его не затуманило.
«О госпожа, которою крепка моя надежда и которая ради моего спасения оставила свои следы в Аду, во всем, что я видел, я узнаю твои милость и добродетель; ты вывела меня из рабства на свободу всеми средствами и всеми силами, что были в твоей власти. Не оставь меня своею великой щедростью, дабы мой дух, который ты сделала полным, отошедши от тела, был тебе мил». Так я молил; и она, казавшаяся столь далекой, улыбнулась и взглянула на меня, а затем перевела взор на предвечный источник.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.
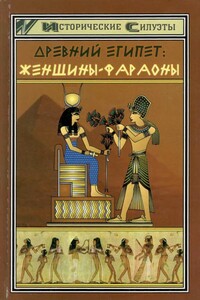
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.
