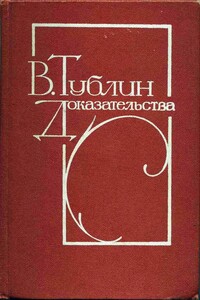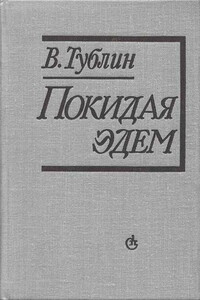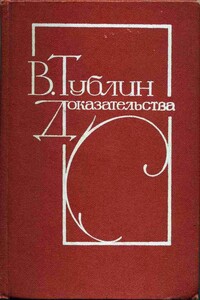Заключительный период - [12]
Зубов постоял еще немного, словно надеясь на чудо, но чуда не было, и он, осторожно переставляя ноги, стал спускаться. После третьего, а может быть, четвертого шага нога его встала на что-то скользкое, он взмахнул руками, не удержался, упал и, втянув голову в плечи, покатился вниз. Мысль его работала, однако, очень ясно; перекатываясь с боку на бок, он думал: «Вот сейчас налечу на валун — и прощай, товарищ Зубов! Забавно!»
Но на валун он не наткнулся — кусты, густо и накрепко вросшие в подножие склона, остановили его. Некоторое время Зубов лежал не двигаясь и пытаясь по первым ощущениям понять, что с ним. Затем он пошевелил ногой, другой, руками… Все, кажется, было в порядке. Он сел, потом встал — нигде ничего не болело; похлопал себя — на куртке быстро застывала грязь. И только. «Везет тебе, Зубов! — сказал он сам себе и только тогда понял, что потерял берет. — Жаль. Ну да черт с ним!» Тут что-то зашлепало неподалеку, вспыхнул красноватый огонек папиросы.
— Кто тут? — спросил Зубов.
— Я, — пробасил человек с папиросой.
— Ты чего молчал? Я кричал тебе, кричал…
— И я. Только ты кричал по ветру, а я — против. Понял?
— А я тут грохнулся.
— И я тоже. Здесь лысина есть глиняная, наверное. Не зашибся?
— Нет, нисколько. Только берет потерял.
— Ну и то хорошо. Пошли теперь, я причал нашел. Тут недалеко, по тропке.
Через пять минут плеск воды приблизился вплотную.
— Вот сюда… Трап здесь.
Они поднялись на баржу.
— Тут кто-то должен быть, — сказал Саша.
— Эй, есть здесь кто?
Вдруг прямо перед ними заскрипело, показался свет «летучей мыши», он приближался, покачиваясь. Подошла старуха с фонарем.
Она оглядела их — огромного шофера и тощего, с растрепанными волосами Зубова в испачканной брезентовой куртке.
— Вы кто, мамаша, будете здесь? — спросил Саша.
— Комендант я…
— Нам бы пройти куда… Пока пароход не пришел.
— Это можно, — сказала старуха.
— И попить бы, — попросил Зубов.
Старуха кивнула:
— Вон там, за ящиком, ведро-то.
Вода была ледяная и очень вкусная.
— Даже зубы ломит, — сказал Зубов, ставя кружку.
Они вошли внутрь превращенной в причал баржи, спустились по крутым ступенькам.
— Вот тут можно подождать, — сказала она и качнула фонарем в сторону скамьи.
Помещение было огромным. Свет фонаря не достигал ни дальних углов, ни потолка. Баржу покачивало. Пахло хлебом.
Снаружи подвывал ветер. Баржа добродушно поскрипывала. В темноте, в углах, настороженно попискивали крысы.
— Ну вот, — сказал, садясь на скамью, Саша. — Тут и обождем.
У Зубова слипались веки.
— Я обопрусь на тебя, — сказал он виновато и мгновенно заснул.
— Геннадий! Геннадий Иваныч!
— А?.. Что, ехать? — Спросонья Зубов никак не мог понять, где он и чего от него хотят. Потом вспомнил и потянулся. — Эх…
— Вот, поешьте, — говорила между тем старуха, протягивая Зубову кусок пирога. — Это с морошкой, попробуйте с молочком-то.
— Спасибо, — сказал Зубов, втягивая носом изумительный аромат теплого пирога. Достал из кармана ножик.
— Ты ешь, ешь, — сказал Саша. — Я уже.
Зубов кивнул, с наслаждением вгрызаясь в пирог.
— Да, — говорил Саша, видимо продолжая разговор. — Вот так она и сказала. Не хочу, говорит, и все. На что мне дети, молодой-то? Ты, говорит, сел за баранку — и нет тебя, а мне — возись. Так? А если баба одна — что ей? Я — вон как, то в Вологду, то в Североморск, то, как сейчас, в Холмогоры на месяц. У нее дом свой, деньги я ей оставлял. Ну и… — Шофер замолчал, комкая толстыми пальцами окурок.
Старуха сидела прямо, глядя перед собой. В ногах у нее горела «летучая мышь».
Шофер глубоко выдохнул. Зубов понял, что значило это «Ну и…» За девять часов, которые потребовались, чтобы преодолеть пятьдесят четыре километра пути от Архангельска до Касковки, он узнал, что его шофер только полгода назад вернулся из заключения, где пробыл пять лет из десяти положенных ему за то, что искалечил жену и ее случайного приятеля, когда застал их однажды у себя дома.
— А потому все, — сказала медленно старуха, глядя немигающими глазами прямо перед собой, — потому все, как детей нет. Я тебе, парень, вот скажу: дети, они для бабы — это все. Оно трудно, конечно, рожать и растить, да ведь которое дерево плода не дает — усыхает. Да… Вот я, к примеру. Сколько мне годов, а? Скажи-ка.
— Шесть десятков есть?
— Шесть? — Старуха с торжествующей улыбкой взглянула на Зубова. — Шесть-то? Мало, сынок, отдал-то. Ан восемь десятков мне, да еще шесть годов. А зубы — все зубы-то, глянь! — И она действительно показала ровные желтоватые зубы. — Все зубы, — повторила она с видимым удовольствием. — А через что? Через то все, что детей у меня было — девять. Шесть и посейчас живы, дети-то. Вот как… Девять, не то что у городских-то ныне. Да и наши, деревенские, сейчас чуть — и в город бегут скоблиться. Один, два робенка — и все. Тут они и похожи ни на что — в тридцать-то лет в ней всякие болезни открываются, а в пятьдесят — на погост. Вот оно как выходит, скоблиться-то. А я вот нет. Последние тридцать годов и болеть не болела. Да у меня и мать посейчас жива, в Морилове она, у Карпогор, — так ей сейчас сто восемь годов. Девятнадцать детей у ней было. Вот как в деревне-то живут.

Небольшая деликатно написанная повесть о душевных метаниях подростков, и все это на фоне мифов Древней Греции и первой любви.

В эту книгу вошли шесть повестей, написанных в разное время. «Испанский триумф», «Дорога на Чанъань» и «Некоторые происшествия середины жерминаля» составляют цельный цикл исторических повестей, объединенных мыслью об ответственности человека перед народом. Эта же мысль является основной и в современных повестях, составляющих большую часть книги («Доказательства», «Золотые яблоки Гесперид», «Покидая Элем»). В этих повестях история переплетается с сегодняшним днем, еще раз подтверждая нерасторжимое единство прошлого с настоящим.Компиляция сборника Тублин Валентин.
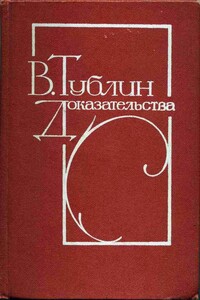
Цезарь разбил последних помпеянцев в Испании. Он на вершине успеха. Но заговорщики уже точат кинжалы…

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

С чего начинается день у друзей, сильно подгулявших вчера? Правильно, с поиска денег. И они найдены – 33 тысячи долларов в свертке прямо на земле. Лихорадочные попытки приобщиться к `сладкой жизни`, реализовать самые безумные желания и мечты заканчиваются... таинственной пропажей вожделенных средств. Друзьям остается решить два вопроса. Первый – простой: а были деньги – то? И второй – а в них ли счастье?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.