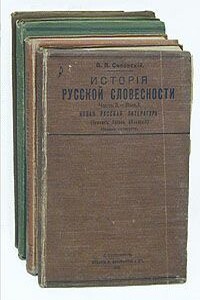Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя - [61]
Это стихотворение Тютчева занимало в сознании Георгия Иванова важное место – прежде всего из-за его первого поэтического кумира Александра Блока, на которого этот текст произвел столь сильное впечатление, что он был дважды процитирован Блоком в дневнике[282]; Блок намеревался также использовать это стихотворение в качестве эпиграфа к драме «Роза и Крест»[283]. Самим Ивановым поэтический авторитет Тютчева декларирован в позднем (1957) стихотворении «Свободен путь под Фермопилами»[284]:
Итак, в двучастном стихотворении Тютчева два голоса выражают два миросозерцания: для первого голоса жизнь – безнадёжная борьба, всегда завершающаяся поражением (смертью), для второго гибель в борьбе – победа, несмотря на смерть, так что антитеза «победа или смерть» снимается. При этом, как отмечает по поводу этого стихотворения Ю. М. Лотман, «голоса дают семантические границы, внутри которых размещается поле возможных (зависящих от декламационной интерпретации и ряд других, принадлежащих уже читателю причин) истолкований. Текст не даёт конечной интерпретации – он лишь указывает границы рисуемой им картины мира»[285]. В сфере того, что не декларировано Тютчевым и оставляет простор воображению читателя, остаются, в частности, проблемы неизбежности и целей самой борьбы. При этом некоторые существенные признаки указывают, что оба поэта, Иванов и Окуджава, в анализируемых здесь текстах опирались на «Два голоса»: Иванов – напрямик, а Окуджава, вероятно, через Иванова. Применительно к стихотворениям Тютчева и Иванова это особенно очевидно: тематически оба о жизни и смерти, композиционно оба двухчастные, с двумя «голосами», словно спорящими друг с другом, – правда, двухчастное стихотворение Иванова не предлагает двух взаимоисключающих вариантов решения темы, как текст Тютчева: первая часть перекликается с тютчевским первым голосом, а вторая вступает в полемику со вторым голосом.
У Тютчева как победа, так и поражение в борьбе отделены от её смертельного исхода: в первом голосе «конец» соответствует самой невозможности победы («Для них нет победы, для них есть конец»). Образы первой части стихотворения Иванова рисуют ещё более трагическую картину, чем первый голос в стихотворении Тютчева, понятия поражения и смерти у Иванова сближаются. Так, метафора «пепел, что остался от сожженья» и рифма «пораженье-сожженье» связывают поражение со смертью, а «музыка», которая здесь символизирует поэзию, не спасает от гибели, но, напротив, несёт гибель, «сжигает» жизнь.
У Тютчева во втором голосе гибель не исключает победы («Кто, ратуя, пал, побеждённый лишь Роком,/ Тот вырвал из рук их победный венец»), однако, в обоих голосах смерть неизбежна. Стихотворение Тютчева позволяет читателю, не нарушая авторский замысел, понимать цель борьбы по-своему, например как победу над злом (это же происходит в первой части стихотворения Иванова: «Я верю не в непобедимость зла…») или даже как выигрыш в игре (как во второй части стихотворения Иванова: «Мне говорят: ты выиграл игру»), то есть и вторая часть стихотворения Иванова перекликается со вторым голосом Тютчева, как первая с первым. Итак, первые четыре строки Иванова описывают «борьбу» как многокомпонентную игру, возможно, являющуюся самой жизнью («Игра судьбы. Игра добра и зла./ Игра ума. Игра воображенья»), что не противоречит образной системе Тютчева, однако у Иванова выигрыш в игре оказывается мнимым и ненужным («…всё равно. Я больше не играю.»), у Тютчева же, напротив, поражение оборачивается победой.
Стало быть, хотя по видимости у Георгия Иванова, как и во втором голосе Тютчева, соседствуют победа (выигрыш) и смерть, смысл обоих стихотворений оказывается противоположен, а потому разительно различается и интонация. Стихотворение Тютчева героическое, персонажи его – боги и обобщённые смертные «други», а выраженная в стихотворении идея подразумевает гибель в борьбе за правое дело. Георгий Иванов, судя по тексту анализируемого стихотворения (и не только), к подобным идеям относился скептически: как отмечает Ю. Кублановский, «Г. Иванов безоглядно отказывается от геройства или хотя бы от бравады…»>1. Стихотворение его – от первого лица (недаром «я» появляется в трёх последних строках трижды), а смерть, о которой идёт речь, – смерть лирического героя, за которым угадывается автор. Характерно, что «допустим» вносит элемент неопределённое™ в последующее утверждение «как поэт я не умру», а союз «зато» усиливает последующее утверждение «как человек я умираю», то есть в утверждении, что автор заплатил жизнью за возможное (но лишь возможное) поэтическое бессмертие, доминируют трагичность и реальность смерти. И всё же, при всех различиях, Георгий Иванов отталкивался от тютчевских стихов точно так же, как Окуджава – от стихов Иванова, а призыв, звучащий во второй строфе Окуджавы, сближается с призывом второго голоса у Тютчева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.