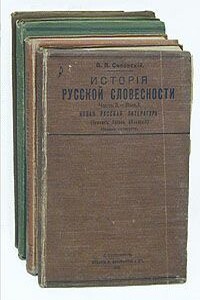Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя - [60]
Заметно, что лирическая тональность Иванова иная, чем у Окуджавы: у Иванова трагическое неприятие мира доходит до отрицания реальности бытия, не исключая поэзии, которой он посвятил жизнь, – теперь для него реальна лишь смерть.
Однако прежде чем сопоставлять произведения Иванова и Окуджавы, следует упомянуть о различиях в индивидуальностях и самооценках их авторов. Известно, что Окуджава как автор и как человек был чрезвычайно скромен; таков же и лирический герой «Песенки»: он не говорит о себе в терминах поэтического бессмертия, для него оправдание жизни человека – участие в борьбе за общечеловеческие ценности, он не использует «я», а только «мы» («наше»), императив или второе лицо («не станешь… умрешь…»). Другое дело Георгий Иванов, воспитанный в школе акмеизма и потому приученный сознавать себя поэтом: его стихи от первого лица и открыто исповедальны.
Сравним заключительные строфы. У обоих поэтов они представляют собой сочетание нескольких фигур речи: две последние строки каждой построены на антитезе («Допустим, как поэт я не умру,/ Зато как человек я умираю» и «Может, и не станешь победителем,/ но зато умрешь как человек»), сопровождаемой, как это часто бывает, синтаксическим параллелизмом; при этом синтаксис Окуджавы довольно точно воспроизводит синтаксис Иванова: вводное слово – тезис, противительный союз «зато» – антитезис. Наконец, в последних двух строках Иванова использованы две взаимосвязанные фигуры: полиптот (когда слово употребляется в микроконтексте в разных грамматических формах, как «умру»/«умираю») и антанаклаза (когда слово повторяется, но каждый раз в другом значении) – в данном случае это «(не) умру как поэт» означает «мои стихи (не) забудут», а «как человек умираю» подразумевает физическую смерть автора стихов. У Окуджавы полное лексическое совпадение с Ивановым в последнем стихе определенно указывает на отсылку к стихотворению предшественника: «…зато как человек я умираю» – «…зато умрешь, как человек». Однако при скрытой цитате всегда происходит трансформация первоначального текста, и в нашем случае эта смысловая трансформация происходит благодаря инверсии, которая обеспечивает антанаклазу второго порядка, улавливаемую лишь в случае, когда автор и читатель мысленно сопоставляют оба текста – при этом «как человек я умираю» означает любую физическую смерть, а «умрешь как человек» указывает на смерть достойную, без утраты чести. Можно сказать, что Окуджава построил последнюю строфу «Песенки» как зеркальное отражение последней строфы стихотворения Иванова: в зеркальном отражении правая сторона становится левой и наоборот, и именно по этому закону «как человек я умираю» превращается в «умрёшь как человек», изменяя смысл оригинала, но не его словесное наполнение. Окуджава словно осуществляет реализацию той самой метафоры, с которой начал своё стихотворение Георгий Иванов: «Друг друга отражают зеркала,/ Взаимно искажая отраженья».
Итак, при близости – вплоть до буквальных совпадений – лексики и структуры фразы, смысл заключительных строф у двух поэтов принципиально различен, что отсылает нас сразу и к предшествующим строкам обоих текстов, и к различиям в мировоззренческих позициях авторов. Георгий Иванов говорит о смерти в её буквальном, физическом смысле – о том, что даже поэтическое бессмертие от нее не спасает; у Окуджавы смерть – неизбежная данность, вопрос лишь в том, как прожить жизнь, – и ответ: быть честным человеком и бороться со всеми, кто нарушает нравственные принципы; а если погибнешь в этой борьбе, «зато умрёшь как человек». Окуджава спорит с Ивановым, но его текст в существующей форме был бы невозможен без предшествующего текста Иванова, из которого он заимствует и лексику, и риторику заключительных строк.
Именно это стихотворение, очевидно, о многом говорило Окуджаве; уже в следующем, 1989 году, он пишет «К старости косточки стали болеть»[280], где в первых же строках звучит вопрос «Стоило ли воскресать и гореть?/ Все, что исхожено, что оно стоит?», а в последней строфе следует пессимистический ответ – и вновь является аллюзия на то же стихотворение Георгия Иванова: у Окуджавы: «Все, что мерещилось, в прах сожжено./ Так, лишь какая-то малость в остатке…», у Иванова: «Я верю… Не в музыку, что жизнь мою сожгла,/ А в пепел, что остался от сожженья». Из контекста ясно, что «гореть» у Окуджавы значит «творить поэзию» – то же самое означает у Иванова «музыка», сжигающая жизнь поэта и оставляющая после себя лишь пепел.
Однако стихотворение Георгия Иванова само может быть прочитано как отклик на предшествующий текст, написанный ровно на сто лет раньше (1850), – на «Два голоса» Тютчева[281].
Два голоса

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.