За неимением гербовой печати - [14]
За месяц или полтора до войны она вышла замуж за старшего лейтенанта — танкиста Федю, высокого красивого парня. Свадьбу гуляли в нашей большой комнате. Собралось много народа. Федя играл на баяне. Его черные, как смоль, волосы рассыпались, когда он, растягивая меха, низко наклонял голову. Было шумно и весело. Особое впечатление произвел поросенок с яблоками, которого мама зажарила к Аннушкиной свадьбе и прямо на противне внесла в комнату в разгар торжества.
Аннушкина свадьба была последним весельем в нашем доме. Через месяц Федя, ее муж, погиб здесь же, на пороге дома.
На рассвете он прорвался из Южного городка, где стояла его часть, чтобы забрать жену, но Аннушка вместе с моим отцом ушла в управление, мы тоже уже покинули дом, и Федя никого не застал. Он поспешно сбежал вниз, чтобы сесть в поджидавшую «эмку», но в дверях его скосила автоматная очередь. Немцы появились из-за Дома физкультуры. Федя еще нашел в себе силы, держась рукой за стену, преодолеть десяток ступеней до второго этажа. Отчетливые красновато-рыжие отпечатки пятерни на светло-зеленой панели подъезда обрывались на площадке второго этажа.
А когда мы шли с мамой в то сентябрьское утро, мы ничего не знали, мама очень волновалась и все наставляла меня, чтобы я ни на шаг не отходил от нее и вел себя как следует.
Если бы не нужда, мы бы ни за что не рискнули идти в дом, занятый врагом, но ведь это все-таки был дом, в котором мы жили, в котором остались принадлежащие нам вещи. Где-то в глубине души мы еще надеялись, что это имеет какое-нибудь значение.
Мы ускорили шаги и вошли в парадное. Поднялись на третий этаж. Дверь в квартиру открыта. Прямо по коридору дверь в гостиную. Слева — на чердак. Чердак — как комната, вход прямо из квартиры, даже балкон есть.
Я вспомнил: летом на чердаке жарко, как в духовке. Пахнет ржавым железом и пересохшим клеем. Когда мы вобрались сюда, на чердаке была свалена старая мебель, какие-то венские кресла с гнутыми ножками, спинки от кроватей с побуревшей, изъеденной жучком древесиной. Среди прочего хлама, оставшегося от прежних хозяев, нас привлекла только огромная пачка аккуратно перевязанных кинорекламных журналов.
А мама уже входила в большую комнату, и я поспешил за ней.
На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Тахта, покрытая ковром, на которой я спал, стол, буфет, радиоприемник в углу, даже гардина с шелковой бахромой, мамина гордость.
Но повсюду расставлены, рассованы незнакомые вещи — пакеты, свертки, чемоданы, на подоконнике и тумбочке бритвенные приборы, пластмассовая посуда. И от всего этого чужой, казарменный дух кожи и табака. Мы стояли, не зная как нам быть. И тут из комнаты, которая была у нас спальней, появился коренастый немец в сером джемпере. Смуглолицый и рябоватый, он не очень походил на немца. Он спал или читал перед тем, как выйти к нам: глаза припухло щурились. Его озадачило наше появление, он не мог понять, откуда мы взялись, как посмели придти сюда. Он уже свыкся со своим положением хозяина и не мыслил иного отношения к себе со стороны местных жителей, как только страх и покорность.
— Вас ист лёс?[5] — в упор гортанно выдохнул немец.
Мама вздрогнула и крепко сжала мою руку. Черт возьми, мы ведь говорили, что не надо подавать виду, что боимся их. Сейчас было самое подходящее время продемонстрировать это.
Мучило любопытство, что там в нашей с сестрой комнате. Как просто пересечь гостиную, два-три шага, и все. Но сейчас их не пройти, потому что на пути стоит чужой человек и смотрит на нас угрожающе. И считает, что все это его: и комната, и дом, и улица, и мир, в котором мы, неизвестно откуда взявшиеся, еще существуем.
— Вас ист лёс? — вскинув подбородок, как бы подхлестывая нас, повторил немец. Сунул руки в косые карманы галифе и упрямо потянулся на носках, качнулся несколько раз в нетерпении.
— Мы здесь жили, — быстро заговорила мама, — здесь жили, ферштейн, — она обвела рукой комнату, — здесь остались наши вещи, мы бы хотели что-нибудь взять.
Немец, судя по его виду, не понимал, чего от него хотят.
— Мы остались в чем стоим, понимаете, — пыталась растолковать мама, — вот все, что на нас — Она зачем-то притронулась к своему платью, — больше у нас ничего нет. Все осталось здесь, ферштейн, здесь.
Немец ухмыльнулся.
— Вас ист дас «здесь»?[6]
— Мы жили здесь, мы, это наша квартира, ферштейн, — твердила мама.
— Их ферштейн, абер ду бист феррикт[7], — сказал немец, покрутив указательным пальцем около виска.
— Он думает, мы хотим, чтобы нам вернули квартиру.
— Нет, нет, — отрицательно замотала головой мама, — нет, что вы, нам бы только что-нибудь из вещей. Вот посмотрите, у моего сына совсем развалились сандалии.
Мама привлекла меня к себе, стараясь обратить внимание немца на мои драные сандалии.
Мне стало не по себе от того, что я должен позировать перед ним и выпрашивать пару собственных ботинок.
— Ладно, мама, пусть его, — говорил я, опустив голову и, стараясь спрятать торчавший сквозь драную подошву палец. — Давай уйдем отсюда.
— Сейчас уйдем, погоди минутку, — сказала мама, еще на что-то надеясь.
— Уйдем, он все равно ничего не понимает, — настаивал я.
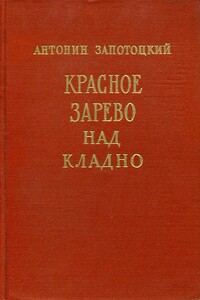
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
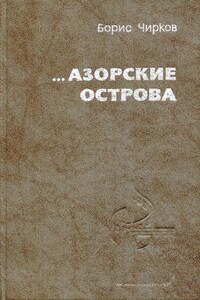
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
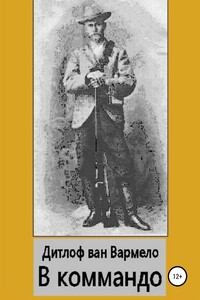
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.