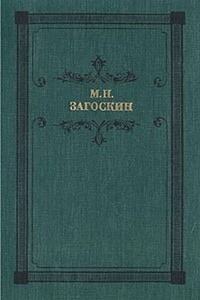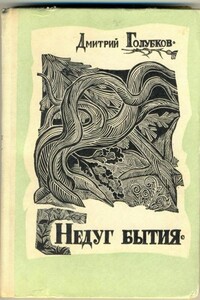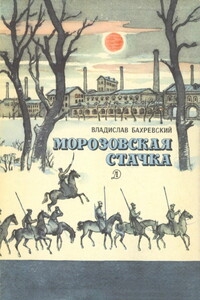– Боярина Тимофея Федоровича, – отвечал Юрий.
– А от кого ты прислан?
Вместо ответа Юрий сбросил свой охабень. Обшитый богатыми галунами кафтан и дорогая сабля подействовали сильнее на этих невежд, чем благородный вид Юрия: они вскочили проворно с своих лавок, и тот, который сделал первый вопрос, поклонясь вежливо, сказал, что боярин еще не вставал и если гостю угодно подождать, то он просит его в другую комнату. Юрий вошел вслед за слугою в четырехугольный обширный покой, посреди которого стояли длинные дубовые столы, а вдоль стены – покрытые пестрыми коврами лавки. Прошло более часа; никто не показывался. От нечего делать Юрий стал рассматривать развешанные по стенам портреты довольно изрядной, по тогдашнему времени, живописи. Почти все представляли поляков, а один – короля польского в короне и порфире. Портрет был поясной, и король был представлен облокотившимся на стол, на котором лежал скипетр с двуглавым орлом и священный для всех русских венец Мономахов. Юрий вздрогнул от негодования, прочтя надпись на польском языке: «Сигизмунд король польский и царь русский». Не помышляя о последствии первого необдуманного движения, он протянул руку, чтоб сорвать портрет со стены, как вдруг двери из внутренних покоев растворились, и человек лет тридцати, опрятно одетый, вошел в комнату. Поздравив Юрия с приездом и объявив себя одним из знакомцев боярина[57], он спросил: какую надобность имеет приезжий до хозяина?
– Я должен сам поговорить с Тимофеем Федоровичем, – отвечал Юрий.
– Ему теперь некогда: он отправляет гонца в Москву.
– Я сам из Москвы и привез ему грамоту от пана Гонсевского.
– От пана Гонсевского? А, это другое дело! Милости просим! Я тотчас доложу боярину. Дозволь только спросить: при тебе, что ль, получили известие в Москве о славной победе короля польского?
– О какой победе?
– Так ты не знаешь? Смоленск взят.
– Возможно ли?
– Да, да, это гнездо бунтовщиков теперь в наших руках. Боярин Тимофей Федорович вчера получил грамоту от своего приятеля, смоленского уроженца, Андрея Дедешина, который помог королю завладеть городом…
– И, верно, не был награжден как следует за такую услугу? – сказал Юрий, с трудом скрывая свое негодование.
– О нет! он теперь в большой милости у короля польского.
– Не верю: Сигизмунд не потерпит при лице своем изменника.
– Что ты! какой он изменник! Когда город взяли, все изменники и бунтовщики заперлись в соборе, под которым был пороховой погреб, подожгли сами себя и все сгибли до единого. Туда им и дорога!.. Но не погневайся, я пойду и доложу о тебе боярину.
– Верные смоляне! – сказал Юрий, оставшись один. – Для чего я не мог погибнуть вместе с вами! Вы положили головы за вашу родину, а я… я клялся в верности тому, чей отец, как лютый враг, разоряет землю русскую!
Громкий крик, раздавшийся на дворе, рассеял на минуту его мрачные мысли; он подошел к окну: посреди двора несколько слуг обливали водою какого-то безобразного старика; несчастный дрожал от холода, кривлялся и, делая престранные прыжки, ревел нелепым голосом. Добрый, чувствительный Юрий никак не догадался б, что значит эта жестокая шутка, если б громкий хохот в соседнем покое не надоумил его, что это одна из потех боярина Шалонского. Отвращение, чувствуемое им к хозяину дома, удвоилось при виде этой бесчеловечной забавы, которая кончилась тем, что посиневшего от холода и едва живого старика оттащили в застольную. Вслед за сим потешным зрелищем вошел опять тот же знакомец боярина и пригласил Юрия идти за собою. Пройдя одну небольшую комнату, провожатый его отворил обитые красным сукном двери и ввел его в покой, которого стены были обтянуты голландскою позолоченной кожей. Перед большим столом, на высоких резных креслах, сидел человек лет пятидесяти. Бледное лицо, носящее на себе отпечаток сильных, необузданных страстей; редкая с проседью борода и серые небольшие глаза, которые, сверкая из-под насупленных бровей, казалось, готовы были от малейшего прекословия запылать бешенством, – все это вместе составляло наружность вовсе не привлекательную. Подбритые на польский образец волосы, низко повязанный кушак по длинному штофному кафтану придавали ему вид богатого польского пана; но в то же время надетая нараспашку, сверх кафтана, с золотыми петлицами ферязь напоминала пышную одежду бояр русских. Юрию нетрудно было отгадать, что он видит перед собой боярина Кручину. Поклонись вежливо, он подал ему обернутое шелковым снурком письмо пана Гонсевского.
– Давно ли ты из Москвы? – спросил боярин, развертывая письмо.
– Осьмой день, Тимофей Федорович.
– Осьмой день! Хорошего же гонца выбрал мой будущий зять! Ну, молодец, если б ты служил мне, а не пану Гонсевскому…
– Я служу одному царю русскому, Владиславу, – перервал хладнокровно Юрий.
– В самом деле! Да кто же ты таков, верный слуга царя Владислава? – спросил насмешливо Кручина.
– Юрий, сын боярина Димитрия Милославского.
– Димитрия Милославского!.. закоснелого ненавистника поляков?.. И ты сын его?.. Но все равно!.. Садись, Юрий Дмитрич. Диво, что пан Гонсевский не нашел никого прислать ко мне, кроме тебя.