Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования - [35]
Языковые действия ребенка состояли отнюдь не в том, что он неправильно зарегистрировал в своем восприятии дифференциальный признак глухости-звонкости у одной из фонем, вследствие чего на следующем операционном этапе был выбран неправильный член словесной минимальной пары, вследствие чего, в свою очередь, в структуру высказывания оказался вставлен неправильный семантический компонент, что привело к соответствующему сдвигу содержания этого высказывания. Можно предположить, что его действия имели более хаотический, синкретичный, но в то же время более творческий и синтезирующий характер.
Они определялись, прежде всего, сознанием того, что перед ним — «стихи», и притом «взрослые» стихи, серьезные и довольно торжественные (это можно было понять хотя бы по интонации их произнесения); это значило, во-первых, что они «имеют смысл» (то есть не являются веселой заведомой чепухой nursery-rhymes), во-вторых, что это будет смысл фигуративный, приподнятый над повседневной реальностью, и в-третьих, что он может оказаться немножко туманным и не совсем понятным. В частности, такой модус восприятия позволял принять выражения «большевистский партбилет», «партийных книжек», несмотря на туманность их смысла, как нечто естественно положенное такой приподнято-фигуративной смысловой фактуре: понятный образ «книжек» приобретал некие не совсем ясные, но явно высоко положительные и торжественные атрибуты.
Настроив свое восприятие на такую жанровую, стилевую и эмоциональную тональность, наш слушатель стремился воссоздать для себя в этом ключе смысловой образ стихов, используя для этого многие имевшиеся в его распоряжении ресурсы. В числе этих ресурсов было и представление о Маяковском как о «великане» (этот образ довольно явственно проглядывал и из самих его стихов, и из рассказов о нем, его портретов и т. п.) — представление, которое в ситуации «поднимания ста домов» естественно контаминировалось с иллюстрациями к приключениям Гулливера в стране лилипутов, получая конкретное образное воплощение; и восприятие образа дома, наполненного книгами, как чего-то вполне понятного и образно представимого. Заметим также, что выражение ’сто домов’ имеет естественный, легко распознаваемый образ именно в детском языковом опыте. Во «взрослом» языке такая круглая цифра применительно к ’домам’ была бы не вполне обычной; легко представить себе ситуацию, где вы скажете и услышите: ’два дома’, ’пять домов’, — но ’сто домов’? Зато языковая память взрослого привыкла оперировать круглыми цифрами применительно к ’томам’: ’собрание сочинений в 10, 20, 30 томах’, ’библиотека имеет сто тысяч томов’. Но в детской языковой перспективе выражение ’сто домов’ естественным образом проецируется в нарративный модус детского повествовательного стиля, с типичными для него округлениями и преувеличениями: ’от его чихания слетели крыши у ста домов’, ’ в ту же минуту, как из-под земли, выросли сто домов’. Этот гиперболический модус детского повествовательного дискурса легко транспонируется в экзальтированно-декламационный модус поэзии.
Мобилизовав таким образом наличные у него ресурсы — идиоматические, стилевые, жанровые, аллюзионные, образные, предметные, — ребенок воссоздал смысловой образ ситуации, который выглядел для него «приемлемым», с точки зрения той коммуникативной тональности, в которой развертывалась вся эта работа, — или, во всяком случае, не более туманным и экстравагантным, чем можно было ожидать от этих «взрослых стихов». Это был образ, который он мог удовлетворительно распознать (то есть мог сказать, что он его «понимает»), — образ, более или менее вписавшийся в тот языковой «ландшафт», который сложился в опыте его языкового существования, и занявший в этом ландшафте свое место, в качестве приемлемого (хоть, может быть, и немного загадочного) объекта. Выражению ’сто томов (каких-то) книжек’ в этом ландшафте не было места, оно в нем попросту не существовало.
Когда, спустя некоторое время, недоразумение разъяснилось (к большому моему разочарованию), это произошло, опять-таки, не потому, что улучшилось восприятие фонологического контраста ’т’ vs. ’д’ и его реализации в речи. Причиной было то, что к тому времени в моем языковом опыте появилось и само слово ’том’, и та идиоматическая, аллюзионная, жанровая среда, в которой, как в почве, это слово прорастает в своем бытии в языке. Для говорящего, обладающего такой мерой языкового опыта, проблема фонематического контраста ’том’ vs. ’дом’ в этом случае так же не вставала, как и для ребенка, хотя и по другой причине. И в том, и в другом случае слушатель не спрашивает себя, услышал ли он глухую либо звонкую фонему в составе предъявленной ему цепочки. Он задается вопросами принципиально иного порядка: ’что это за слово или выражение, знакомо ли оно мне, и откуда?’, ’что это за высказывание, какие ассоциации оно вызывает?’, ’что это за языковая ситуация, в которой я нахожусь?’, — и как результат всего этого: ’что это за смысл?’
Услышав строку Все сто томов моих партийных книжек, зная при этом, что она появляется в контексте стихов, подводивших итог творческого пути поэта, — носитель языка вызывает в своем сознании целостный образ ситуации, в котором, растворяясь и прорастая друг в друга, сосуществуют многие различные компоненты: тут и стандартные языковые выражения-блоки: ’сто томов’, ’поднял книгу/потряс книгой над головой’; и ассоциативное скольжение слов-образов ’партбилет— «красная книжка» — книга — том’; и типовой образ литературного наследия «классика» (’полное собрание сочинений в… томах’); и образ голосования на партийном собрании (поднятие «книжки»-мандата); и реминисценция из другого стихотворения Маяковского, в котором поэт торжественно предъявляет «красную книжку» советского паспорта; и популярный образ «партбилета» в поэзии двадцатых годов (в частности, в знаменитом стихотворении Безыменского — одного из оппонентов и гонителей Маяковского), в качестве общего фона образа «партийной книжки»; и память о ленинской доктрине «партийной литературы» и ее применении в идеологической борьбе в советском литературном быту, и понимание той оборонительной позиции, которую Маяковскому, в качестве беспартийного (более того — вступившего в партию в молодости и затем вышедшего из нее) «попутчика» приходилось занимать в двадцатые годы, доказывая свою лояльность и «партийность» своего творчества; и знание об отчаянности его положения в момент написания поэмы «Во весь голос», когда, после оппортунистического вступления в РАПП, он потерял большинство старых друзей и не приобрел новых. Такова смысловая среда, в которую теперь помещалось и в которой растворялось выражение ’сто томов партийных книжек’. В этом смысловом ландшафте словоформа ’домов’ была бы так же неуместна, как жираф в помещении партбюро союза писателей. (Неуместна, но не невозможна — в языке вообще нет ничего невозможного; но ее появление было бы «чрезвычайным происшествием», которое нуждалось бы в каком-либо «чрезвычайном» объяснении.)
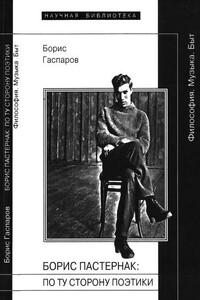
Интенсивные, хотя и кратковременные занятия Пастернака музыкой и затем философией, предшествовавшие его вхождению в литературу, рассматриваются в книге как определяющие координаты духовного мира поэта, на пересечении которых возникло его творчество. Его третьим, столь же универсально важным измерением признается приверженность Пастернака к «быту», то есть к непосредственно данной, неопосредованной и неотфильтрованной сознанием действительности. Воссоздание облика этой «первичной» действительности становится для Пастернака кардинальной философской и этической задачей, достижимой лишь средствами поэзии, и лишь на основании глубинного трансцендентного «ритма», воплощение которого являет в себе музыка.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.