Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования - [148]
Каким бы странным, нелепым, уродливым ни казался нам данный языковой феномен — он все равно «выглядит» для нас каким-то положительным образом: именно — как нечто странное, нелепое и уродливое, и выглядит так не сам по себе, но в той среде, в которую наше представление — действующее в меру нашего понимания того, что, собственно, происходит, — его для нас поместило. Мы всегда находим некоторую среду для любого языкового опыта, какую бы отрицательную оценку сам этот опыт у нас ни вызывал: сама такая отрицательная оценка оказывается возможной лишь тогда, когда мы «увидели» данный языковой феномен в определенной мысленной среде, увидели во всей его, как нам представляется, неуместности и нелепости.
Если для лингвистики XX столетия характерна установка на «правильные» языковые построения, в которых соблюдены общеобязательные требования языкового кода, то эстетические теории этой эпохи, напротив, склонны придавать исключительно большое значение «отрицательным» приемам, действие которых состоит в нарушении сложившегося в читательском сознании «кода» эстетического поведения. В сущности, эти две крайности сходятся; категорическое противопоставление положительного и отрицательного состояния, соблюдения «общественного договора» и его преднамеренного нарушения типично для авангардистского мышления, с его склонностью к поляризациям и бинарной диалектике[193]. Если, однако, исходить из того, что решающую роль и в художественно-языковом, и вообще во всяком языковом мышлении играют конкретные представления, прототипы, аналогии, а не логические операции отождествления и противопоставления абстрактных типов и правил, возможность чисто «отрицательного» смыслообразуюшего приема оказывается сомнительной.
Читатель начала 1910-х годов, открывший экстравагантно оформленную книжку под заглавием Пощечина общественному вкусу и прочитавший:
воспринимал этот свой опыт, конечно, как драматический слом привычных представлений о возможностях языкового выражения. Но вместе с тем, наш читатель не мог не видеть встающее за этим текстом положительное коммуникативное содержание — образ авангардного поэта, с такими характерными его чертами, как сочетание эзотеричности и примитива, изысканности и преднамеренного «варваризма», вызывающего самоутверждения и инфантильности.
Самосознание авангарда, послужившее источником формальной и структуральной поэтики, понимало «новое» отрицательно, как результат сознательного нарушения сложившихся стереотипов и правил; негодование косной массы было этому самосознанию так же необходимо, как восторг адептов нового, поскольку оно служило живым свидетельством нарушения рутины, а значит, смысловой наполненности авангардного творчества. Однако само возмущение «косной публики» было, в сущности, запрограммировано и входило в эстетику авангардного действа не как его отрицание, но в качестве положительного компонента, имеющего свою функцию; «косная публика» возмущалась не потому, что ей преподнесли нечто совершенно ею не ожидавшееся, а напротив, как раз потому, что ожидалось, что ей преподнесут нечто, на что с ее стороны уместной окажется реакция недоумения и возмущения[195]. Точно так же и языковая мысль никогда не удовлетворяется чисто отрицательным заключением, что предложенный объект «непохож» на нечто ожидавшееся, что он «нарушает» ожидания и конвенции. Сам эффект непохожести всегда оказывается похож на что-то, нарушение ожидания неотделимо от ожидания нарушения.
Многих, по-видимому, интересовал в детстве вопрос: можно ли выключить сознание хотя бы на мгновение, так чтобы совсем «ни о чем не думать» (кажется, об этой игре упоминается у Толстого в «Детстве»)? Закрываешь глаза, пытаешься отключиться от любых мыслей, воспоминаний, ощущений — и убеждаешься в невозможности этого: само усилие «ни о чем не думать» уже представляет собой акт мысли. Наши отношения с языком напоминают мне эту детскую игру. Нет такого языкового впечатления, которое не имело бы для нас «совсем никакого» значения, либо имело чисто отрицательное значение, в качестве отклонения от чего-то нами ожидавшегося и нам известного.
Знаменитый пример Н. Чомского — «Colorless green ideas sleep furiously» — призван был, по мысли автора, проиллюстрировать возможность полностью неприемлемого высказывания, в котором были бы соблюдены все синтаксические правила, но нарушены правила семантической сочетаемости; тем самым доказывалось, что семантическая структура высказывания строится таким же закономерным образом, на основании определенных правил, как и его синтаксическая структура. Однако спонтанные реакции говорящих на этот, ставший хрестоматийным пример показали, что он способен занять свое место в их языковом мире; некоторые находили высказывание про бесцветные зеленые идеи похожим на детскую считалку или загадку, другие — на «современную поэзию»[196]. Для меня лично эта фраза вписывается самым естественным и понятным образом в жанровое пространство лингвофилософского рассуждения о языковой семантике — от Карнапа, Куайна, Остинадо Катца, Лакова и, конечно, того же Чомского, — для которого создание преднамеренно парадоксальных языковых «монстров» является типичным эвристическим приемом. К этому мысленному ландшафту примешивается, естественно сливаясь с ним, отпечаток «шестидесятнического» дискурса, с типичным для него поведенческим и языковым маньеризмом, сочетающим в себе «антиэстетическую» бесцеремонность в обращении с любым предметом и комическую замысловатость: ср. не менее загадочное заглавие книги К. Киси (Ken Kesey) «One flew over the cuccoo’s nest» (перифразирующее стих из детской считалки) или книги Т. Вулфа, главным героем которой является сам Киси, — «Electric cool-aid acid test». Во всех подобных случаях говорящие, в меру своего разумения, находят (вольно или невольно) какую-то мысленную среду для предложенного языкового феномена, которая и позволяет ему стать объектом интерпретирующей мысли.
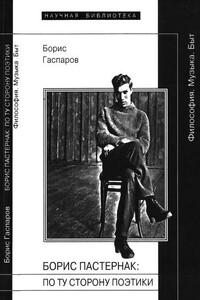
Интенсивные, хотя и кратковременные занятия Пастернака музыкой и затем философией, предшествовавшие его вхождению в литературу, рассматриваются в книге как определяющие координаты духовного мира поэта, на пересечении которых возникло его творчество. Его третьим, столь же универсально важным измерением признается приверженность Пастернака к «быту», то есть к непосредственно данной, неопосредованной и неотфильтрованной сознанием действительности. Воссоздание облика этой «первичной» действительности становится для Пастернака кардинальной философской и этической задачей, достижимой лишь средствами поэзии, и лишь на основании глубинного трансцендентного «ритма», воплощение которого являет в себе музыка.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.