Я твой бессменный арестант - [67]
Старшую группу подняли спозаранку. Похватали на скорую руку завтрак и двинули пешедралом через мост к темнеющему вдали лесу. На этот лес смотрел я подолгу прошедшей зимой, не представляя его реальности и возможности сюда попасть.
Дорога забирала в обход низкой луговины, затопляемой в половодье, к зеленеющим полям. Поля источали слабый запах сухой земли и навоза. Колеи полнились пылью. Пальцы ног утопали в ней, как в шелковистой пудре, и было приятно загребать и пускать по ветру серые вихорьки.
Путь предстоял дальний. Пустынный кривой проселок незаметно подобрался к реденькому осиннику и по его краю — к пологому холму. Лесок густел, тянулся к небу и постепенно переходил в сосновый бор, а проселок — в просеку. Стройные стволы мачтовых сосен лоснились луковичной шелухой. Было приятно шагать по холодку. Взбодренные свежестью раннего утра, мы без передыху, не покидая строя, отмахали больше половины пути. Мало-помалу поволоклись вразброд, рыская по придорожным полянам в поисках ягод или застарелых хвостиков щавеля. Ветви кустов прыскали в глаза росяными брызгами, мокрая трава окропила ноги по колена.
Солнце вывернулось сбоку из-за вершин сосен.
Мы шли, и ссохшийся желудок прилипал к спине, и в нем было так пусто, так просторно, хоть катай бильярдные шары.
Сворачивая за деревце по нужде, кто-нибудь непременно объявлял:
— «Поссым, — сказал Суворов, и тысячи херов сверкнули под забором» или «Одна кобыла всех срать заманила».
За увалом дорога круто сползала к бугристому болоту, поросшему редким кустарником. Здесь просеку устилала гать: срубленные стволы молодых деревьев плотно, в несколько рядов, уложенные поперек пути. Поверх бревнышек местами проступала мутная, бурая жижица. Когда мы ступали по шаткому настилу, она всквакивала и чавкала.
Мшистые пеньки торчали по обочинам, а еще чуть в сторону топкая, зыбкая почва расстилалась плавающим ковром. Густой мох нежно пружинил, лаская подошвы ног. Кое-где темнели стоячие омутки теплой, заплесневелой по краям водицы. По временам в них взбулькивали пузырьки болотного газа. Жесткие кочки щетинились пучками соломенных стеблей. На кочках можно было попрыгать и послушать, как под колеблющемся травяным ковром расходятся и быстро затухают круги волн.
— Мертвая топь, — промолвил Лапоть. — Провалишься, засосет!
— Партизанский край, — уважительно пояснила воспитательница. — Гиблое место.
За болотом прятался одинокий хуторок, десяток свежесрубленных домиков, и в отдаление — пара сторожевых вышек. Пустынно, ни одного человека, только спесивые свиньи безмятежно нежились в лужах. Нас, незванных пришельцев, и взглядом не удостаивали. Мирные чушки, немного худы и грязноваты, но одного хряка с литым загривком хватило бы заполнить излишнее, сморщенное пространство наших желудков, где совершенно определенно нет жизни. Какая там жизнь, тьма тьмущая и тоскливое запустение.
С ленивых свиней если не сытая шамовка, то хоть немного развлечений. Группа пустилась седлать необъезженных, визжащих животных. Отчаянно, им в тон, вопила воспиталка.
После первого похода нам еще лишь пару раз удавалось порезвиться веселыми скачками. Свиньи быстро поумнели. Непостижимым образом учуивая наше приближение к околице, они снимались с насиженных мест и улепетывали стремительным аллюром, без оглядки, как струхнувшие собачонки. Лишь иногда нам доводилось заметить издали взволнованные крючки хвостиков зазевавшихся животных.
Мы у цели. Глубокие борозды, исполосовавшие черно-бурое торфяное болото, стлались в необозримую даль. Вспоротая земля дышала прелым сырым теплом.
Нам предстояло переворачивать подсохшие сверху пласты и подставлять солнышку пропитанный влагой бок. Неровные штабеля готового, просушенного торфа громоздились вдоль кромки взрытого поля.
Продолговатые, нарезанные поленьями комья с первого взгляда казались не тяжелыми, а работа не хитрой, вполне по силам. Так, легкая прогулка вдоль борозды. Но минут через пяток я взопрел, а через полчаса измучался и выдохся.
Полосы вывернутой земли змеились за горизонт. Горячий пот струйками сочился со лба, щипал глаза, ноги дрожали от напряжения. То на коленях, то вприсядку копался я в черном перегное, приподнимал ком и переворачивал, приподнимал и переворачивал. Грязь облепила руки и ноги, я скользил и вяз, но как ни спешил, дело почти не двигалось. Согнутые спины ребят мелькали далеко впереди. Назойливо липли мухи, деревенели мышцы, а я все полз и полз, с безнадежным остервенением ворочая неподъемные комья.
Один за другим одолевали свои гряды ребята и блаженно рассыпались поодаль на травке. Я поминутно оценивал оставшуюся мне часть: с моим проворством с работой не справиться, из проклятого болота не вырваться.
Солнце нещадно жгло затылок, плавились мозги. Знакомая боль плескалась в висках, горело горло. Ребята давно покончили со своими нормами и уползли с солнцепека в тень. Может передохнуть? Нет, все ждут. Я бился как чумной, толок коленями жирное месиво, тягал и тягал мокрые пласты.
Иногда мне кричали, и я едва разбирал:
— Не волынь! Жрать охота!
— Шевелись, глиста вяленая!
— Будет мудохаться!

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.
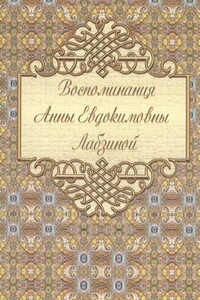
Анна Евдокимовна Лабзина - дочь надворного советника Евдокима Яковлевича Яковлева, во втором браке замужем за А.Ф.Лабзиным. основателем масонской ложи и вице-президентом Академии художеств. В своих воспоминаниях она откровенно и бесхитростно описывает картину деревенского быта небогатой средней дворянской семьи, обрисовывает свою внутреннюю жизнь, останавливаясь преимущественно на изложении своих и чужих рассуждений. В книге приведены также выдержки из дневника А.Е.Лабзиной 1818 года. С бытовой точки зрения ее воспоминания ценны как памятник давно минувшей эпохи, как материал для истории русской культуры середины XVIII века.

Граф Геннинг Фридрих фон-Бассевич (1680–1749) в продолжении целого ряда лет имел большое влияние на политические дела Севера, что давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн.Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)