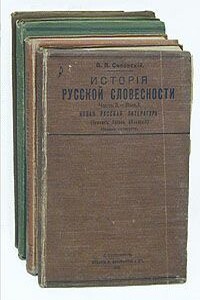«…Я молчал 20 лет, но это отразилось на мне скорее благоприятно»: Письма Д.И. Кленовского В.Ф. Маркову (1952-1962) - [32]
Добавлю тут же, что я отнюдь не плохого мнения о стихах Одоевцевой, хотя и не большой их поклонник.
Судить о статье Ульянова[249] обо мне я, как заинтересованное лицо, не могу. Мне кажется только, что, за исключением концовки, он не более хвалебно высказался обо мне, чем Вы об Одоевцевой. Статья эта, конечно, многим пришлась не по вкусу, и я предчувствую, с каким сладострастием Терапиано в будущей рецензии о № 59 «Н<ового> ж<урнала»> сразу же расправится с двумя своими «врагами» — мною и Ульяновым![250] Но вот Струве просил меня даже довести при случае до сведения Ульянова, что он согласен решительно со всеми положениями и выводами его статьи. Он считает ее только слишком краткой. Тут все, конечно, дело вкуса! Кто любит мои стихи, тому статья нравится, и наоборот. Вам она не нравится потому, что Вы… не любите моих стихов. В Ваше хорошее (как Вы пишете) отношение ко мне (как к поэту) я, откровенно говоря, не верю. Если Г. Иванов сыграл в Вашей жизни такую огромную роль, всю ее, как Вы выразились, перевернул (не поэтическим же своим мастерством перевернул — оно одно не переворачивает — а своим миропониманием), то мои стихи Вам нравиться не могут, а следовательно, хорошо относиться ко мне как к поэту Вы тоже не можете, т. к. я и Г. Иванов — антиподы. Вам, вероятно, нравятся у меня отдельные образы, та или иная игра мыслей и т. п., но внутренней связи с моей поэзией у Вас нет и быть не может. Я это давно знаю, и, как видите, это не влияет на мое к Вам отношение. И защищать меня (как Вы обещаете) Вы, конечно же, никогда не станете, и не только от Одоевцевой, но и от Терапиано, и даже от Трубецкого. Не станете потому, что нет у Вас в этом душевной потребности. И уж если защищать, то ото всех, и от тигров тоже, а не от одних шакалов. Зачем мне нужна защита от шакалов!? Повторяю, дорогой, я на Вас никак не в обиде! У каждого свой вкус и свои литературные симпатии.
Да, вот еще что: мне непонятно, как могут стихи Г. Иванова «перевернуть» чью-либо жизнь, т. е. сообщить ей какое-то новое действенное содержание? По-моему, они могут ее только выхолостить. Что может «перевернуть» серная кислота? Она может только выесть то, чего она коснется. Это уже не событие, а несчастье…
Сердечный привет! Д. Кленовский
46
29 авг<уста 19>60
Дорогой Владимир Федорович!
И Вам спасибо за письмо искреннее, живое, горячее (я ведь именно это все в Вас особенно и ценю!). Обижаться (как Вы опасаетесь) просто не за что. Но поговорить еще немножко есть о чем. Но только ради Бога не вытаскивайте у меня «линейки» из рук! «Линейка» — вещь полезная! Ею раньше еще и по пальцам били, и часто за дело. Если я, как Вы говорите, в поэзии высоко взлетаю, а опускаюсь (это уж я говорю) на парашюте, не разбивая себе при этом под общий хохот лба, то это только потому, что в моем высотном коктейле есть ложка осторожности и здравого смысла, качеств в поэзии при всяческих безумствах совсем не лишних. Благоразумие не должно, конечно, отяжелять поэзию, но должно предохранять ее от газообразного состояния. И вообще: в мыслях я «фантаст», а в деталях — реалист. Я могу высказаться в моих стихах не по-земному, но у меня никогда не будет в первой строке сиять солнце, а в четвертой идти дождик или астры цвести одновременно с яблонями, как это нередко случается у наших сегодняшних поэтов. Я против неправдоподобия в земных деталях, ибо земля есть земля, и я, пока я на ней, подчиняюсь ее законам. Но «парить» над нею я могу, как мне заблагорассудится. Вот почему, поскольку Вы рассуждаете о делах земных, я и вытаскиваю линейку, делю и вычитаю. Ведь мыс Вами в предыдущих письмах не о стихах спорили, а о поступках. Поэзия — это дело, если так можно выразиться, внеземное, а поступки — дело земное, и критика их тоже. Поэтому нет ничего удивительного в том, если в поэзии я, как Вы выразились, «проникаю иногда в недоступное», а в критике (притом не поэзии!) делю, множу, вычитаю.
Вы говорите, что любите поэзию «в любой форме и независимо от содержания». Подписываюсь под этим двумя руками с единственной оговоркой, что содержание поэзии не должно оскорблять мою душу (дразнить — может, вот почему, например, «1943 год» Моршена мне очень нравится). Г. Иванов единственный русский поэт, которого я, при всех его талантах, не приемлю. Не приемлю именно потому, что он оскорбляет меня, и притом не только как христианина (хоть и плохого), но и как человека. Сказано: всякая хула простится человеку (т. е. даже хула на Бога), но хула на Духа Святого не простится человеку. А поэзия Г. Иванова именно прежде всего хула на Духа Святого, отражение коего, пусть и в обезображенном виде («я знаю: мир обезображен…»[251] — Д. К.), есть и в нашем мире, и в каждой человеческой душе. Пока я не уверен в том, что мир обезображен Богом, а не человеком, я не имею права хулить Духа Святого в мире и в человеке. Оправдывать Г. Иванова, вытягивая (за волосы!) единичные и сомнительные примеры обратного из его стихов, — занятие неубедительное. Т<ак> ч<то> тут дело уже не в линейке, а в чем-то более серьезном. Между Некрасовым и Фетом нет той (сказал бы я) бездны, какая существует между Г. Ивановым и любым русским поэтом, в том числе и Кленовским. Вот почему нельзя принять и того и другого, а нужно между ними выбрать, иначе это недостойно человека: либо дьяволу поклонись, либо Богу. Можно признавать существование обоих, но поклоняться можно только одному из них. Ведь дело тут не только в художественных мазках, но и в исповедании, в символе веры.

1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли».

Переписка с Одоевцевой возникла у В.Ф. Маркова как своеобразное приложение к переписке с Г.В. Ивановым, которую он завязал в октябре 1955 г. С февраля 1956 г. Маркову начинает писать и Одоевцева, причем переписка с разной степенью интенсивности ведется на протяжении двадцати лет, особенно активно в 1956–1961 гг.В письмах обсуждается вся послевоенная литературная жизнь, причем зачастую из первых рук. Конечно, наибольший интерес представляют особенности последних лет жизни Г.В. Иванова. В этом отношении данная публикация — одна из самых крупных и подробных.Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-x гг.

Оба участника публикуемой переписки — люди небезызвестные. Журналист, мемуарист и общественный деятель Марк Вениаминович Вишняк (1883–1976) наибольшую известность приобрел как один из соредакторов знаменитых «Современных записок» (Париж, 1920–1940). Критик, литературовед и поэт Владимир Федорович Марков (1920–2013) был моложе на 37 лет и принадлежал к другому поколению во всех смыслах этого слова и даже к другой волне эмиграции.При всей небезызвестности трудно было бы найти более разных людей. К моменту начала переписки Марков вдвое моложе Вишняка, первому — 34 года, а второму — за 70.

Эммануил Райс (1909–1981) — литературовед, литературный критик, поэт, переводчик и эссеист русской эмиграции в Париже. Доктор философии (1972). С 1962 г. Райс преподавал, выступал с лекциями по истории культуры, работал в Национальном центре научных исследований. Последние годы жизни преподавал в Нантеровском отделении Парижского университета.С В.Ф. Марковым Райс переписывался на протяжении четверти века. Их переписка, практически целиком литературная, в деталях раскрывающая малоизученный период эмигрантской литературы, — один из любопытнейших документов послевоенной эмиграции, занятное отражение мнений и взглядов тех лет.Из нее более наглядно, чем из печатных критических отзывов, видно, что именно из советской литературы читали и ценили в эмиграции, И это несмотря на то, что у Райса свой собственный взгляд на все процессы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
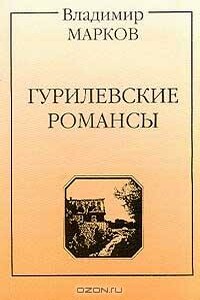
Георгий Иванов назвал поэму «Гурилевские романсы» «реальной и блестящей удачей» ее автора. Автор, Владимир Федорович Марков (р. 1920), выпускник Ленинградского университета, в 1941 г. ушел добровольцем на фронт, был ранен, оказался в плену. До 1949 г. жил в Германии, затем в США. В 1957-1990 гг. состоял профессором русской литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в котором он живет до сих пор.Марков счастливо сочетает в себе одновременно дар поэта и дар исследователя поэзии. Наибольшую известность получили его работы по истории русского футуризма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.