Я, Данила - [4]
Гляжу я на этих своих верных товарищей. Чем не дневник? На болгарской границе их ваксила пригожая крестьяночка, а я тем временем ей заливал, какие мы, партизаны, порядочные, у нас, мол, без согласия женщины ни-ни… А на австрийской они тузили по заду немецкого полковника, а я тем временем внушал ему, что мы, партизаны, блюдем Женевскую конвенцию, соответственно местным условиям и возможностям, разумеется.
Сапогу следует поставить памятник и тут же дать по нему из орудия.
Подле меня вещмешок, автомат и револьвер. Муравей резвится на мушке револьвера, выглядывающей из рваной кобуры. По дулу автомата ползет червяк, убеждая меня в ненужности оружия. Весь металл на восстановление! Но лозунги мирного времени меня мало трогают, я вовсе не собираюсь бросать оружие и становиться на героическую вахту у плуга. Без оружия нельзя, в лесу еще банды орудуют. Пахать я не могу — спина моя нашпигована осколками, и, чуть наклонюсь, они шуршат под кожей, как щебенка. Спущу денежки, а там и примкну к какой-нибудь колонне мирных жителей заканчивать свою биографию. Деньги я слишком мало ценю, чтобы делать ставку на них. Искать славы — поздно. Впрочем, я за ней и раньше не гонялся. Нет у меня никаких желаний. Все позади. А впереди еще ничего не светит. Плыву, как одинокое бревно по спокойному лиману времени.
Терзаю я свою потную грязную потылицу и думаю: а не съесть ли мне хлеб и лук, что лежат в мешке? Решаю так: покажется женщина — съем, мужчина — оставлю на ужин.
Показалось пугало, старое, в лохмотьях. В нынешние времена помощи ЮНРРА[1] и Красного Креста воистину мудрено ходить таким оборванцем. Да и политически никуда не годится. Почесываясь то там, то здесь, словно вши у него привыкли к ДДТ, старик издали подозрительно косился на меня.
Он хотел было свернуть в сторону — война его кое-чему научила, но любопытство взяло верх. Приложив два пальца к шапке, которая по идее когда-то была папахой, он, не ведая еще, из какой я армии, для начала сказал:
— Жарища!
— Мне не жарко, — отозвался я.
Старик присмотрелся ко мне, нагнулся, заглянул мне в глаза и завопил:
— Данила, никак ты?
— Угу. Собственной персоной…
— О, боже милостивый, боже милостивый! Неужто ты жив, касатик?
— К сожалению, да.
Мое равнодушие задело его за живое.
— Не признаешь меня, Данила?
— Как не признать, ты Панта Куль, мой ближайший сосед…
— А ты вроде б серчаешь на меня?
— Да нет, просто живот болит.
— Найдем тебе глоток-другой зелья лютого, хоть из-под земли достанем! Дай-ка поглядеть на тебя! Смотри-ка, весь седой! И изранили небось, мерзавцы?
— Железа во мне на целую борону.
— Ох-ох, злодеи, что они с нами содеяли, накажи их бог! Я тоже хлебнул горюшка, сколько раз на ружья натыкался. Одному богу известно, как уцелел. А-а… ежели здесь останешься, поди, будешь… председатель аль начальник какой?
— Я из Госбезопасности, — пошутил я.
Панта выпучил глаза, выдернул травинку и с лисьим спокойствием посмотрел на небо.
— Людей сажать — тоже дело.
— Ну, а как твои, Панта? Все живы?
— Где уж там все! Ну ладно, прощай, Дане. Пойду поищу глоток ракии. Ежели сам не смогу принести, пошлю мальчонку.
Два сына Панты ушли с четниками. Он был имущим хозяином, из тех, кто, как говорится, и нашим и вашим. Был комитетчиком у нас и у четников, старостой при усташах. В одной и той же кровати у него одинаково удобно спали и Коча[2], и полковник Фишер, и Сергие Михайлович[3], и Францетич[4]. Он ловко ходил по остриям наших военных хитросплетений и ни разу даже не поранился. Хамелеона несправедливо исключили из науки о человеке.
Я знал, что он не вернется. Но раззвонит по всему селу о моем прибытии. Интересно, кто первый захочет поглядеть на меня?
Йованка!
Она бросила плуг, на бегу умылась и переоделась. Стройные ноги были еще мокрые до колен. Шумно дыша, она звонко целовала меня и обнимала руками пахаря.
— Ой-ей, пришел наконец, старинушка! К кому пойдешь ночевать? Мама твоя померла в лагере беженцев, знаешь, поди?
— Да.
— Стевана повесили эсэсовцы. Перед общиной.
— Знаю. Слыхал.
— Сестра вдругорядь замуж вышла, уехала в Сербию.
— Да ну!
— Бабку Евту задушили бандиты-четники.
— О, значит, никого не осталось.
— Никого, бедный мой Данила! Но мы с тобой старые товарищи, друзья по несчастью.
— Верно, обоим досталось от твоего покойного мужа.
— Добрый был человек, бедняга, да только чудной какой-то. Ну, так пойдешь ко мне ночевать?
— Пойду, только чур — ночью ничего!
— Ладно, ладно, ты только приходи! Взять мешок и фляжку?
Улетела.
Тридцать раненых перенесла она в Семберию. Два немецких наступления выдержала в отряде. На руках перетаскивала через горные потоки изнемогших бойцов. В Семберии взваливала на спину мешок пшеницы и шла в горы, чтоб накормить размещенные там отряды. А сегодня так же, как вчера и позавчера, впряглась в плуг и пахала. Да еще и пела.
Что делать, ежели она, как солнце зайдет, протянет ко мне руки?
Третьего гостя не пришлось долго ждать.
Пришел Раде по прозванию «Власть».
Гражданская эта власть хромала, однако возмещала свой недостаток толстой палкой и хорошо подвешенным языком. Молодая, желтая от плохих харчей, ощетинившаяся, самоуверенная, словно заткнула за пояс «Капитал», она подошла ко мне, подозрительно поздоровалась и спросила:

В каноне кэмпа Сьюзен Зонтаг поставила "Зулейку Добсон" на первое место, в списке лучших английских романов по версии газеты The Guardian она находится на сороковой позиции, в списке шедевров Modern Library – на 59-ой. Этой книгой восхищались Ивлин Во, Вирджиния Вулф, Э.М. Форстер. В 2011 году Зулейке исполнилось сто лет, и только сейчас она заговорила по-русски.
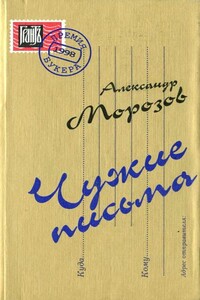
Если б невзначай, по чьему-то недогляду или какому-то недоразумению, повесть Александра Морозова появилась в печати именно тогда, когда была написана, ей, несомненно, был бы вынесен махрово-облыжный приговор: «клеветническая стряпня», «идеологическая диверсия», «рецидив реакционной достоевщины». Ее автора вполне можно было подвести под статью 190-прим — «клевета на советский строй».Теперь же, после всего с нами случившегося, повесть многими может быть воспринята, скорее, как некая ностальгия по тому лучшему, что прежде имелось в людских душах вопреки калечащим их внешним обстоятельствам.В 1998 году «Чужие письма» удостоены Букеровской премии.
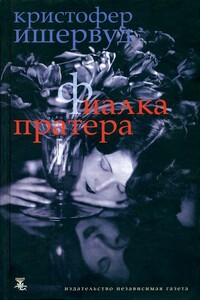
Обаяние произведений Кристофера Ишервуда кроется в неповторимом сплаве прихотливой художественной фантазии, изысканного литературного стиля, причудливо сложившихся, зачастую болезненных обстоятельств личной судьбы и активного неприятия фашизма.
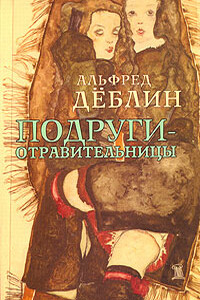
В марте 1923 года в Берлинском областном суде слушалось сенсационное дело об убийстве молодого столяра Линка. Виновными были признаны жена убитого Элли Линк и ее любовница Грета Бенде. Присяжные выслушали 600 любовных писем, написанных подругами-отравительницами. Процесс Линк и Бенде породил дискуссию в печати о порочности однополой любви и вызвал интерес психоаналитиков. Заинтересовал он и крупнейшего немецкого писателя Альфреда Дёблина, который восстановил в своей документальной книге драматическую историю Элли Линк, ее мужа и ее любовницы.
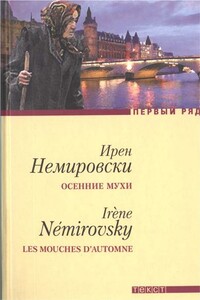
Издательство «Текст» продолжает знакомить российского читателя с творчеством французской писательницы русского происхождения Ирен Немировски. В книгу вошли два небольших произведения, объединенные темой России. «Осенние мухи» — повесть о русских эмигрантах «первой волны» в Париже, «Дело Курилова» — историческая фантазия на актуальную ныне тему терроризма. Обе повести, написанные в лучших традициях французской классической литературы, — еще одно свидетельство яркого таланта Ирен Немировски.
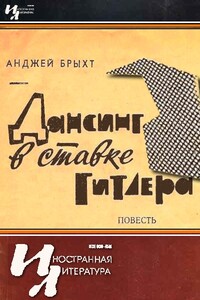
В 1980-е годы читающая публика Советского Союза была потрясена повестью «Дансинг в ставке Гитлера», напечатанной в культовом журнале советской интеллигенции «Иностранная литература».Повесть затронула тему, которая казалась каждому человеку понятной и не требующей объяснения: тему проклятия фашизму. Затронула вопрос забвения прошлого, памяти предков, прощения зла.Фабула повести проста: в одном из маленьких городов Польши, где была одна из ставок Гитлера, построили увеселительный центр с дансингом. Место на развилке дорог, народу много: доход хороший.Одно весьма смущало: на строительстве ставки работали военнопленные, и по окончании строительства их расстреляли.

Историю русского военнопленного Григория Папроткина, казненного немецким командованием, составляющую сюжет «Спора об унтере Грише», писатель еще до создания этого романа положил в основу своей неопубликованной пьесы, над которой работал в 1917–1921 годах.Роман о Грише — роман антивоенный, и среди немецких художественных произведений, посвященных первой мировой войне, он занял почетное место. Передовая критика проявила большой интерес к этому произведению, которое сразу же принесло Арнольду Цвейгу широкую известность у него на родине и в других странах.«Спор об унтере Грише» выделяется принципиальностью и глубиной своей тематики, обширностью замысла, искусством психологического анализа, свежестью чувства, пластичностью изображения людей и природы, крепким и острым сюжетом, свободным, однако, от авантюрных и детективных прикрас, на которые могло бы соблазнить полное приключений бегство унтера Гриши из лагеря и судебные интриги, сплетающиеся вокруг дела о беглом военнопленном…
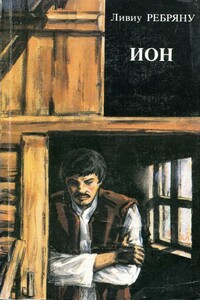
В эпическом повествовании Ливиу Ребряну (1885—1944) — одного из выдающихся представителей румынской прозы межвоенного периода — деревня встает перед читателем как живая. На протяжении всей книги переплетаются, не сливаясь, две главные линии — драма героя, простого крестьянина Иона, чьи достоинства ненасытная жажда обогащения превращает в нравственные пороки: здравомыслие — в коварную расчетливость, энергию — в дикую жестокость; и жизнь деревенских «господ», высокомерие которых не позволяет им смешаться с «чернью».
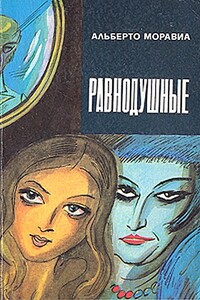
«Равнодушные» — первый роман крупнейшего итальянского прозаика Альберто Моравиа. В этой книге ярко проявились особенности Моравиа-романиста: тонкий психологизм, безжалостная критика буржуазного общества. Герои книги — представители римского «высшего общества» эпохи становления фашизма, тяжело переживающие свое одиночество и пустоту существования.Италия, двадцатые годы XX в.Три дня из жизни пятерых людей: немолодой дамы, Мариаграции, хозяйки приходящей в упадок виллы, ее детей, Микеле и Карлы, Лео, давнего любовника Мариаграции, Лизы, ее приятельницы.
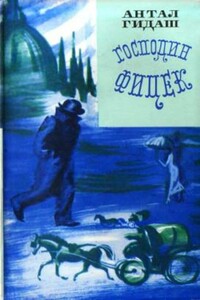
В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.