Я, Данила - [3]
Однако условность монолога Данилы заключается еще и в том, что автор не стилизует его последовательно под речь своего героя. Он как бы «рассказан» не только им, но и самим автором, местами изложен языком, который вряд ли может быть свойствен крестьянину, даже прошедшему переплавку в горниле народно-освободительной войны. В нем много рефлексии, интеллектуальной игры, немало литературных ассоциаций. Это тоже, в значительной мере, писательский прием, с помощью которого автор стремится придать своему герою дополнительную «всеобщность», непосредственно, иногда с открыто публицистическими целями, ввести свой роман в контекст идейных споров современности.
Прямая полемика содержится и в реплике, которую Данила Лисичич произносит о себе уже на первой странице книги: «Я не Сизиф». Античный миф о Сизифе, истолкованный как символ тщеты всех человеческих усилий, — ключевой для философии экзистенциализма. Экзистенциалистские взгляды были широко распространены в литературе и литературной критике Югославии, особенно в 50—60-е годы, и книги, в основе которых лежит реалистическое исследование действительной жизни, человеческого характера, имели в этом смысле открыто полемическое звучание. Относится это и к роману Д. Сушича «Я, Данила». Потерпевший крушение герой — в полную противоположность с расхожими идеями экзистенциализма — не приходит к мысли о том, что жизнь его была напрасна. Его подвижническая деятельность — не «Сизифов труд». Он неизменно уверен в созидательных возможностях человеческой натуры, в том, что человек не игрушка судьбы, а творец обстоятельств. Подчеркивая широту своего замысла и жизненную основу образа Данилы, Д. Сушич говорил в одном из интервью:
«Кто такой Данила Лисичич? На этот вопрос точно ответить нелегко. Возможно, это мое собственное понимание нашего безымянного, но великого революционера определенного этапа, который не сумел на следующем этапе быть в первых рядах борьбы. Возможно, удачно найденный синтез нескольких моих товарищей по партизанской борьбе и послевоенному строительству. Возможно, попытка изобразить в нашей действительности вечную тему трагизма героя. Возможно, чистый вымысел, в котором многие узнали себя или своих товарищей. А возможно, и все вместе взятое…»
«Открытость» в будущее закреплена и в композиционном построении романа Д. Сушича. В нем бегло, но, конечно, не случайно упоминается «Поднятая целина» М. Шолохова. Сопоставление романа «Я, Данила» с «Поднятой целиной», оказавшей огромное воздействие на жизнь и литературу в социалистических странах, встречалось и в югославской критике. С полным основанием можно было бы вспомнить и другое произведение М. Шолохова: рассказ «Судьба человека». Так же как герой этого рассказа, русский солдат Соколов, потерявший в войну все, привязался к мальчику-сироте, так и Данила со всей присущей ему страстью вложил свою любовь в спасенного им маленького Ибрагима, сына погибшего на его глазах партизана. Он хочет воспитать Ибрагима сильным, смелым, ловким, он хочет видеть его образованным и счастливым, он хочет, чтобы у него было все, чего не хватало ему самому.
«Эстафета», переданная грядущим временам, — это тоже общая примета многих книг в литературе социалистических стран.
Горячая заинтересованность в современности, умение видеть ее в противоречиях и в движении, бескомпромиссность нравственной позиции — все это сделало книгу Д. Сушича популярной в Югославии, где она издавалась несколько раз. Инсценировки по роману шли во многих театрах страны, по нему был сделан фильм. При всей специфичности проблем югославской жизни, отразившихся в романе, он вызвал живой интерес в других социалистических странах и был переведен на несколько языков. Интерес этот понятен. Роман Д. Сушича принадлежит к произведениям, которые помогают понять существенно важные процессы, идущие в современной жизни, а его герой входит в галерею тех революционеров, сформированных нашим временем, которых никакие трудности не могут заставить отказаться от идеалов будущего.
П. Топер
Я, ДАНИЛА
Я, Данила Лисичич,
гражданин своей страны и Организации Объединенных Наций, руководящий работник по профессии, неожиданно скатился к подножию своей служебной спирали. Я не Сизиф, и напасти мои ничтожны в сравнении с тем, что легенды и мифы приписывают этому бедолаге. Я простой смертный, который с верха биографического минарета грохнулся на мостовую. И на старости лет, усталый и разбитый, оказался не у дел и без гроша за душой.
Солдат во мне всегда одерживал победу, крестьянин терпел поражение. Да вот только шкура у них, на мою беду, одна.
Я, усталый демобилизованный солдат, сижу на отчем пороге. Справа — почернелая стена. Слева — пустота. Читаю вырезанные на стене лозунги всех армий и узнаю калибры пуль, утверждавших этот политический орнамент во время войны. Смотрю на дорогу. Нигде ни души.
Полдень.
Июнь.
Далеко внизу, у самой реки, поют впряженные в плуги женщины.
Два уцелевших дома и десятка два стен, разбросанных по обе стороны дороги, по всей видимости и есть мое село.
На мне военная форма. На рукаве три звездочки. Капитан. Бывший. Брюки, надетые прямо на тело, трут в паху. Почесать под мышками боязно, — того гляди, рубаха под пальцами расползется. Пот ест босые ноги в жестких жарких сапогах.

В каноне кэмпа Сьюзен Зонтаг поставила "Зулейку Добсон" на первое место, в списке лучших английских романов по версии газеты The Guardian она находится на сороковой позиции, в списке шедевров Modern Library – на 59-ой. Этой книгой восхищались Ивлин Во, Вирджиния Вулф, Э.М. Форстер. В 2011 году Зулейке исполнилось сто лет, и только сейчас она заговорила по-русски.
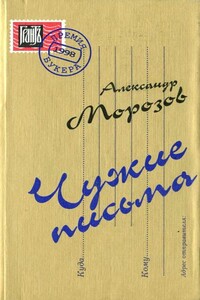
Если б невзначай, по чьему-то недогляду или какому-то недоразумению, повесть Александра Морозова появилась в печати именно тогда, когда была написана, ей, несомненно, был бы вынесен махрово-облыжный приговор: «клеветническая стряпня», «идеологическая диверсия», «рецидив реакционной достоевщины». Ее автора вполне можно было подвести под статью 190-прим — «клевета на советский строй».Теперь же, после всего с нами случившегося, повесть многими может быть воспринята, скорее, как некая ностальгия по тому лучшему, что прежде имелось в людских душах вопреки калечащим их внешним обстоятельствам.В 1998 году «Чужие письма» удостоены Букеровской премии.
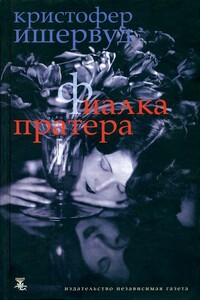
Обаяние произведений Кристофера Ишервуда кроется в неповторимом сплаве прихотливой художественной фантазии, изысканного литературного стиля, причудливо сложившихся, зачастую болезненных обстоятельств личной судьбы и активного неприятия фашизма.
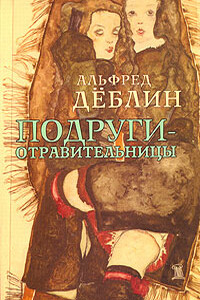
В марте 1923 года в Берлинском областном суде слушалось сенсационное дело об убийстве молодого столяра Линка. Виновными были признаны жена убитого Элли Линк и ее любовница Грета Бенде. Присяжные выслушали 600 любовных писем, написанных подругами-отравительницами. Процесс Линк и Бенде породил дискуссию в печати о порочности однополой любви и вызвал интерес психоаналитиков. Заинтересовал он и крупнейшего немецкого писателя Альфреда Дёблина, который восстановил в своей документальной книге драматическую историю Элли Линк, ее мужа и ее любовницы.
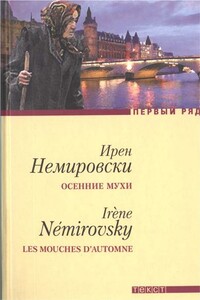
Издательство «Текст» продолжает знакомить российского читателя с творчеством французской писательницы русского происхождения Ирен Немировски. В книгу вошли два небольших произведения, объединенные темой России. «Осенние мухи» — повесть о русских эмигрантах «первой волны» в Париже, «Дело Курилова» — историческая фантазия на актуальную ныне тему терроризма. Обе повести, написанные в лучших традициях французской классической литературы, — еще одно свидетельство яркого таланта Ирен Немировски.
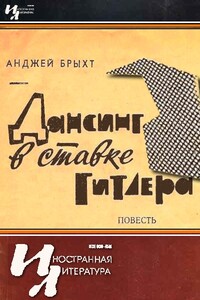
В 1980-е годы читающая публика Советского Союза была потрясена повестью «Дансинг в ставке Гитлера», напечатанной в культовом журнале советской интеллигенции «Иностранная литература».Повесть затронула тему, которая казалась каждому человеку понятной и не требующей объяснения: тему проклятия фашизму. Затронула вопрос забвения прошлого, памяти предков, прощения зла.Фабула повести проста: в одном из маленьких городов Польши, где была одна из ставок Гитлера, построили увеселительный центр с дансингом. Место на развилке дорог, народу много: доход хороший.Одно весьма смущало: на строительстве ставки работали военнопленные, и по окончании строительства их расстреляли.

Историю русского военнопленного Григория Папроткина, казненного немецким командованием, составляющую сюжет «Спора об унтере Грише», писатель еще до создания этого романа положил в основу своей неопубликованной пьесы, над которой работал в 1917–1921 годах.Роман о Грише — роман антивоенный, и среди немецких художественных произведений, посвященных первой мировой войне, он занял почетное место. Передовая критика проявила большой интерес к этому произведению, которое сразу же принесло Арнольду Цвейгу широкую известность у него на родине и в других странах.«Спор об унтере Грише» выделяется принципиальностью и глубиной своей тематики, обширностью замысла, искусством психологического анализа, свежестью чувства, пластичностью изображения людей и природы, крепким и острым сюжетом, свободным, однако, от авантюрных и детективных прикрас, на которые могло бы соблазнить полное приключений бегство унтера Гриши из лагеря и судебные интриги, сплетающиеся вокруг дела о беглом военнопленном…
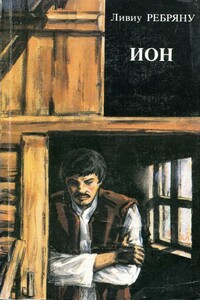
В эпическом повествовании Ливиу Ребряну (1885—1944) — одного из выдающихся представителей румынской прозы межвоенного периода — деревня встает перед читателем как живая. На протяжении всей книги переплетаются, не сливаясь, две главные линии — драма героя, простого крестьянина Иона, чьи достоинства ненасытная жажда обогащения превращает в нравственные пороки: здравомыслие — в коварную расчетливость, энергию — в дикую жестокость; и жизнь деревенских «господ», высокомерие которых не позволяет им смешаться с «чернью».
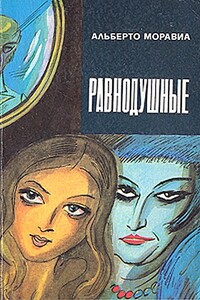
«Равнодушные» — первый роман крупнейшего итальянского прозаика Альберто Моравиа. В этой книге ярко проявились особенности Моравиа-романиста: тонкий психологизм, безжалостная критика буржуазного общества. Герои книги — представители римского «высшего общества» эпохи становления фашизма, тяжело переживающие свое одиночество и пустоту существования.Италия, двадцатые годы XX в.Три дня из жизни пятерых людей: немолодой дамы, Мариаграции, хозяйки приходящей в упадок виллы, ее детей, Микеле и Карлы, Лео, давнего любовника Мариаграции, Лизы, ее приятельницы.
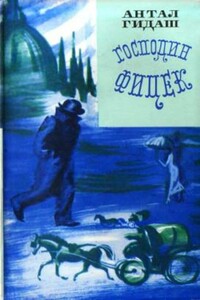
В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.