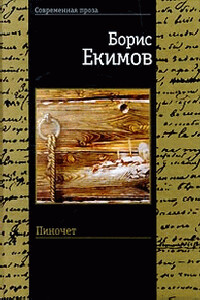Высшая мера - [3]
— Точно?! — обрадовалась жена. — Не сбрешут?!
— Не сбрешут.
— Мягкая?
— Мягкая… А то тебе твердо сидеть, — засмеялся Костя.
После вторых родов жена раздалась вширь, стала приземистой, кубоватой.
— В горнице все старое выкинем… — принялась планировать она. — Поставим кресла, диван, торшер возле него. Стол большой тоже выкинем, он — немодный. Маленький поставим, где кресла.
Костя слушал жену, посмеивался, но тоже прикидывал, хоть и не вслух, как все расположится. Получалось вроде приглядно.
Лишь дочка молча собирала портфель, одевалась. Она училась в девятом классе, в последний год очень выросла, с отцом говорила мало.
— Тебя добросить до школы? — спросил Костя у дочери.
— Нет, — ответила она. — Мне за Ленкой надо зайти.
Костя ничего не сказал, но немного обиделся.
— Меня довези, — сказала жена. — А то на пять минут опоздаешь — всегда косоротятся.
— Поехали… — сказал Костя. — А то время…
Время было весеннее, путина. Жену завезти, купить хлеба и — в «караванку», где лодка стоит. Там — водою, в бригаду.
3
Над холмистым Задоньем, по голубому апрельскому небу день-деньской тянулись высокие облака, пронизанные летним уже теплом и светом. Старый коршун, давнишний житель этих мест, плавал высоко в небе, переходя от света в тень. Под ним кружилась просторная земля, рассеченная широким речным руслом со старицами, рукавами, ериками, ильменями да музгами, приречными озерами.
Пустынной была вода. Редкие лодки, буксиры с баржами терялись на ней. На земле, по светлым нитям дорог, бегали, тоже редкие, машины; неторопкие тракторы там и здесь утюжили пашни, вздымая хвосты пыли; селенья, скотьи стада — все это было внизу. А в небе — лишь солнце да высокие, светом сияющие облака.
Коршун уплывал все выше. Людская суета была ему привычна, но чужда, и он уходил от нее в спасительную высь.
А той же порою, на земле, кружил по холмистому Задонью синий милицейский фургон. Весь долгий день он колесил по донским берегам, время от времени, словно устав от безлюдья, прибивался к накатанному грейдеру, останавливая и проверяя редкие машины, и снова уходил дорогами полевыми, торопясь к берегу, к воде.
Отыскав удобное место, синий фургон замирал, схоронившись в сквозящей тени дубрав ли, вязовой поросли. Машина отдыхала, а люди, выйдя на обрывистый берег, подносили к глазам бинокли, и становилось близким все далекое: серебристая под ветром, чешуйчатая донская вода, зализанные волнами кромки берегов с комьями желтой пены, черные рукастые коряги, белокорые осокори займища в ярком наряде багряных сережек. Все словно оказывалось рядом: и тяжелые железные лодки рыбаков, и сами они, в оранжевых, негнущихся робах, и даже рыба в делях сетей и неводов.
Людей в машине было трое. Один из них, молоденький сержант, не выдержал и сказал, сглатывая слюну:
— Съездить бы к Любарю. Дед бы сазаника с луком сделал посладиться. Да посолонцевать шемаечки свежей, рыбца да балычка. Они коптят толстолобика и сома. Плес у сома жирнючий… — соблазнял он. — А то весь день впроголодь…
Шофер — человек свой — лишь вздохнул да губами почмокал. Но третий, милицейский, по званию старший, вроде ничего и не слышал. Он здесь был чужим, из приезжей республиканской бригады. Каждый год присылали таких на весеннюю путину. Из своего областного центра, от соседей, из Астрахани да Ростова, и даже из Москвы. Последние были вредными. Нынче прислали таких. И вот уже другой день мыкались по Задонью, покоя не зная.
Час за часом тянулся весенний день. В пустынном Задонье, в редких теперь уже хуторах, лениво теплилась жизнь: подле чабанских становищ, отделенных друг от друга долгими километрами, вольно паслись стада. Старый коршун за день успел отыскать и досыта наклеваться снулой рыбы, а к вечеру, ко времени долгих теней, ушел на покой, в гнездовье.
Милицейская же машина свою добычу настигла в позднюю пору, когда зажигались огни на небе и на земле.
Стояли — в засаде ли, не в засаде, — но от грейдера чуть в стороне. Здесь, в отрожье глубокой балки, сходились две дороги, обе от донского берега, от старых, теперь уже смытых временем хуторов: Рубежного да Староселья.
Стояли, курили и услыхали машинный гул: от берега, от воды шел грузовик. Ему преградили путь. И сразу же поняли: не зря. Шофер из кабины не вылез; спутник его, немолодой мужик в джинсах и коже, засуетился, зачастил:
— Ребята, ребята… Мы — люди свои. Как говорится, привет от донецких братьев. Наш шеф просил, если чего, прямо к вашему начальнику, он его хорошо знает. Так что, ребята… Если чего надо.
Грузовик был с фанерной будкою. Забрались на борт, посветили фонариком во тьму, и стало ясно — добрый улов, даже слишком: рыба лежала в ящиках, в мешках и насыпью, прямо на брезенте.
Суетился возле машины хозяин, сыпал скороговоркою:
— На ушицу начальству, самому шефу… И вообще… Как-никак праздник на носу… И гостей много бывает. Ваши приезжают. Но мы — люди нежадные. Если поделиться, пожалуйста. По-хорошему оно всегда. И вам жить надо, и нам…
Молодой сержант посмеивался, слушая обычные речи. Приезжий из московской бригады, молча осмотрев добычу, спрыгнул на землю и спросил:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дед услышал по радио наивный стишок про войну и вспомнил себя мальчиком из поселка Лазурь, на окраине Сталинграда, близ Мамаева бугра… где он жил до войны и где провел все 200 дней и ночей страшной битвы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом дачном поселке у Волги завелся свой скворушка — мальчонка, живущий без матери, растопил сердца всех родных и соседей.

Заботливая дочь, живущая в городе, подарила деревенской матери мобильный телефон. Но как выбрать, о чем успеть рассказать быстро и коротко? Ведь в хуторской жизни, в стариковском бытье много всего, о чем хочется поговорить…

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.