Выше неба - [6]
Я не ответил, просто сунул, ампулу с наркотиком в рот и раскусил упругий пластик, чувствуя обжигающий холод и острую горечь препарата.
— Всегда есть ради чего дальше жить и это всегда приносит боль. Шепчу я в пустоту, а потом поднимаюсь и, пошатываясь, иду к свету, а когда сил идти не остаётся — ползу, загребая снег непослушными обмороженными руками. Когда до палатки оставалось метров тридцать, я потерял сознание.
Левую кисть пришлось ампутировать. Странно, мне казалось, что правой досталось намного больше. Говорить я тоже не мог — голосовые связки пострадали от переохлаждённого кислорода в баллонах Инги. Врачи обещали со временем восстановить и руку, и голос, но пока оставалось печатать фразы на клавиатуре теми нескольким пальцами на правой руке, что уцелели.
Пожалуй, одним из самых неприятных открытий, не считая утраты левой руки, для меня стала камера Инги, точнее, её последняя видеозапись. Перед смертью Инга просила прощения у Антона и сожалела, что не может вернуться к нему. Про меня она не сказала ни слова. Запись я отдал Антону и даже догадывался, что он сейчас сидит в баре, глушит солёный марсианский джин и смотрит это видео по кругу.
Ещё на карте памяти камеры было несколько фотографий Инги на вершине, удивительно чётких изображений, особенно учитывая, что к тому моменту Инга, скорее всего, знала, что ей не под силу будет спуститься. Я отдал фотографии журналистам и даже устроил небольшую пресс-конференцию. Проходила она неторопливо, поскольку ответы мне приходилось набирать на клавиатуре. Одна из журналисток задала вопрос:
— Остались ли в вашей жизни непокоренные вершины?
И когда я ответил «да», с удивлением спросила, какие.
Я мог бы очень много ей сказать про то, что мало достичь вершины, нужно ещё вернуться назад, иначе восхождение теряет смысл. И про то, что в каждом из нас есть своя вершина и путь к ней. Но я не мог говорить, а каждое прикосновение обмороженных пальцев к клавиатуре приносило боль. Я набрал всего одну фразу: «Просто жить дальше».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
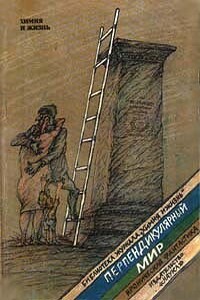
Научно — фантастические произведения, включенные в этот сборник, повествуют о местах, событиях и существах, которых не было, нет, и не может быть — на то и фантастика. Но в невероятных ситуациях читатель встретит знакомые черты недавнего прошлого, от которого мы стремимся избавиться, перестраивая все сферы нашей общественной жизни, возвращаясь из «перпендикулярного мира» в мир реальных ценностей, истинно человеческих отношений.

Потомки атлантов живут среди людей. Они владеют мощным биологическим оружием и секретами бессмертия. Но один из них ради спасения любимой нарушил свой долг перед древней Коллегией. Теперь за ним охотятся не только его соплеменники, но и спецслужбы сильнейших держав мира. Передовые военные технологии — против биологического оружия древности. Тысячелетняя мудрость атлантов — против отлично обученных профессионалов незримой войны. Победитель получит власть над миром и личное бессмертие. Волей случая в эту незримую войну оказываются втянутыми двое подростков: брат и сестра из российской глубинки.

В очередной том собрания сочинений Андрэ Нортон включены совершенно не типичные для творчества писательницы романы. Но приключения молодых героев, разворачивающиеся в вымышленной стране и на придуманном острове, не менее увлекательны, чем события большинства ее фантастических произведений.

Земля. Ближнее будущее.Контроль над человеческим поведением...Молодежь, тысячами вымирающая и сходящая с ума от новых наркотиков. .Новая религия фанатичных «стигматников»...Бесконечные войны международных мафиозных кланов...И – опасные, головокружительные приключения двух парней – П. Алекса и Санчо Рамиреса Парней, случайно заполучивших одну ОЧЕНЬ СТРАННУЮ штуковину. Штуковину, за которой, похоже, охотятся ВСЕ, имеющие – или желающие получить – ВЛАСТЬ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.