Введение в философию - [65]
Мыслимо ли это? – спрашивает телеолог. Или если мыслимо, то возможно ли верить, чтобы что-нибудь подобное действительно случилось? В каком-нибудь пункте времени, на каком-нибудь месте, здесь, на голой земле или в иле, или в воде, или в воздухе пришли, стало быть, в столкновение все те элементы, которые образуют собою орла, или акулу, или льва: и вот последний стоит тут, точно внезапно свеянный ветром, с кожей и шерстью, с глазами и ушами, с зубами и когтями, с сердцем и сосудами с циркулирующей в них кровью? Пусть самая смелая фантазия испытывает свои силы над размалевыванием картины такого происхождения! Да и подумайте: в то же самое счастливое мгновение тот же случай должен был бы создать еще и львицу, притом на том же самом месте, ибо иначе это великое зарождение было бы ведь еще напрасным! А вместе с тем, конечно, и какое-нибудь животное, служащее добычей, например, газель, или, стало быть, пару газелей, или скорее целое число пар, достаточное для прокормления, пока размножение не озаботилось еще возмещением.
Надо будет признаться, что если это не невероятно, то в таком случае на свете вообще нет ничего невероятного. И дело ничуть не становится вероятнее, если, идя по стопам Эмпедокла, мы предположим, что сначала возникли части отдельно сами по себе: руки и ноги без туловища, глаза и уши без головы, с тем, чтобы потом они нашли друг друга и, если какие оказались подходящими, прочно соединились между собой. Аристотель вполне прав, противопоставляя этому представлению такую мысль: целое существует прежде частей, части вырастают на целом и из целого, и другого способа возникновения для них нет. Малейший волос не возникнет где-нибудь иначе, как на теле, к которому он принадлежит, как бы долго мы ни перетряхивали атомы. А теперь мы должны еще, пожалуй, верить, что волосы львиной шерсти, возникнув отдельно и сотнями тысяч носясь по миру, вдруг в один прекрасный день собрались на какой-нибудь одной коже, каждый помещаясь в заранее приготовленное отверстие!? Было бы, однако, во сто раз вероятнее, если бы в один прекрасный день, например, при землетрясении, тысячи каменных осколков обтерлись и нагромоздились именно так, что представили бы собою один раз дорийский храм, другой раз готический собор, или если бы кто-нибудь, вытряхивая из большого мешка миллионы типографских литер, достиг наконец того, чтобы они свалились вместе так, что образовали собою «Илиаду» или «Энеиду».
В самом деле нет ни малейшей несправедливости, если Аристотель сравнивает в одном месте эти представления с бредом пьяных и восхваляет Анаксагора, который со своей мыслью, что разум вносит порядок в хаос, выступает между ними как трезвый и ставит нас на почву разумных и мыслимых мыслей[46].
Для нас эта мысль Анаксагора не представляет ничего нового и неожиданного, она кажется нам очень понятной, а некоторым представляется теперь тривиальной. Но тогда она была открытием. Боги греческой народной веры были не творцами или образо-вателями, а созданиями мира; что мир может быть творением духа, для греков было первоначально совершенно чуждым представлением. Что делает греческую философию так привлекательной для того, кто рассматривает ее с историческим пониманием, это именно то, что в ней видно, как человеческий дух мало-помалу доходит до удивления перед миром. Обыкновенный человек не удивляется вещам; он с детства освоился с ними; что мог бы он найти в них удивительного? Солнце, луна и звезды восходят и заходят, растения и животные возникают и растут, ведь это всегда было так, что могло бы тут быть поразительного? Лишь философу дело представляется удивительным; или, иначе, в том, что кто-то впал в удивление и размышление по поводу того, что до сих пор всему свету представлялось само собой понятным, – и находится, как замечают Платон и Аристотель, первое начало философствования. Как возникла небесная твердь, и как возникли первоначально растения и животные? Этими вопросами о происхождении великого и малого миров начинается греческая философия. И ее первыми ответами являются приведенные попытки объяснения природы из какого-нибудь свойства и движений первичных элементов.
Анаксагору первому пришла в сознание немыслимость этих представлений. Чем яснее и определеннее формулировались они, – как это было сделано наконец атомистами, – тем яснее обнаруживалась их невозможность. И вот Анаксагор, ввиду математической закономерности мироздания и вечного порядка небесных движений, в первый раз в греческом мире высказал богатую последствиями мысль: только из духа может исходить этот порядок. Платон и Аристотель восприняли эту мысль, она служит точкой вращения их миросозерцания: не слепое движение, а сила направленной на благо мысли, всегда и всюду проникая вещи, сообщает последним их форму и действительность. Конечно, к этому должно предположить еще нечто «другое», с одной стороны воспринимающее в себя «мысли», с другой, конечно, и стесняющее их чистое осуществление, некоторый иррациональный фактор рядом с рациональным, т. е. материю. А с этим возникает в то же время и затруднение, связанное с новой теорией: как относится мысль к веществу? Откуда та власть, которую она проявляет по отношению к нему? Обладает ли космический разум, подобно мастеру человеку, глазами и руками?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.
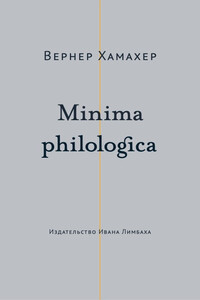
Вернер Хамахер (1948–2017) – один из известнейших философов и филологов Германии, основатель Института сравнительного литературоведения в Университете имени Гете во Франкфурте-на-Майне. Его часто относят к кругу таких мыслителей, как Жак Деррида, Жан-Люк Нанси и Джорджо Агамбен. Вернер Хамахер – самый значимый постструктуралистский философ, когда-либо писавший по-немецки. Кроме того, он – формообразующий автор в американской и немецкой германистике и философии культуры; ему принадлежат широко известные и проницательные комментарии к текстам Вальтера Беньямина и влиятельные работы о Канте, Гегеле, Клейсте, Целане и других.

Что такое правило, если оно как будто без остатка сливается с жизнью? И чем является человеческая жизнь, если в каждом ее жесте, в каждом слове, в каждом молчании она не может быть отличенной от правила? Именно на эти вопросы новая книга Агамбена стремится дать ответ с помощью увлеченного перепрочтения того захватывающего и бездонного феномена, который представляет собой западное монашество от Пахомия до Святого Франциска. Хотя книга детально реконструирует жизнь монахов с ее навязчивым вниманием к отсчитыванию времени и к правилу, к аскетическим техникам и литургии, тезис Агамбена тем не менее состоит в том, что подлинная новизна монашества не в смешении жизни и нормы, но в открытии нового измерения, в котором, возможно, впервые «жизнь» как таковая утверждается в своей автономии, а притязание на «высочайшую бедность» и «пользование» бросает праву вызов, с каковым нашему времени еще придется встретиться лицом к лицу.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.
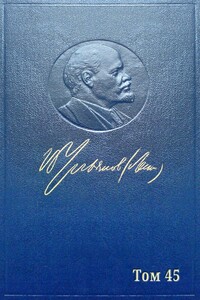
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Датский религиозный мыслитель Сёрен Кьеркегор (1813–1855) – одна из ярчайших фигур в истории философии. Парадоксальный, дерзкий, ироничный полемист и философ и вместе с тем пламенный и страстный проповедник, одинокий и бескомпромиссный, Кьеркегор оказал огромное влияние на весь XX век. Работы С. Кьеркегора, представленные в данной книге, посвящены практике христианской жизни. Обращаясь к различным местам Священного Писания, С. Кьеркегор раскрывает их экзистенциальный смысл, показывая, что значит быть «исполнителями слова, а не только слушателями, обманывающими самих себя» (Иак.