Время потрясений. 1900-1950 гг. - [29]
Вот эта чрезвычайно эффектная концовка сразу придаёт стихотворению ощущение перспективы, вот тот «продлённый призрак бытия синеет за чертой страницы», о чём говорил Набоков. Стихотворение продолжается за страницу, за конец. И в этом, пожалуй, заключается главное очарование Кузмина, потому что он всегда о чём-то ином. Может быть, этими четырьмя возможными реакциями, четырьмя модусами любовь не исчерпывается, а есть какой-то пятый вариант, который и является самым божественным. «А я полюбила, потому что…», и вот это «потому что», которое чувствуется всегда за обыденной жизнью, и есть самое главное.
Есть множество толкований. Некоторые отсылают к египетским текстам, к папирусам, фольклору – к чему угодно, но для меня совершенно очевиден этот смысл. Может быть, я не прав в своём прочтении, но всегда есть неучтённый вариант жизни, который мы чувствуем, по которому мы тоскуем, но, как у Ахматовой в «Поэме без героя»: «С детства ряженых я боялась, / Мне всегда почему-то казалось, / Что какая-то лишняя тень / Среди них “без лица и названья”». Ощущение, что есть ещё что-то помимо того, что мы видим и знаем. В этом, собственно говоря, весь Кузмин, всё его очарование.
Конечно, «Александрийские песни» весьма привлекательны для читателя Серебряного века и особенно для современного читателя, потому что в них есть это очарование восточной экзотики. Мы прекрасно понимаем, что египетская тема, о которой Лада Панова написала целый двухтомник о рецепции Египта в русской культуре, для Серебряного века весьма характерная вещь. Стоит вспомнить мандельштамовского «Египтянина»:
абсолютно точный аналог египетской надписи.
Почему Египет был в такой моде, почему его так любили, почему на материале египетских мистерий было написано такое количество дурновкусной прозы Серебряного века? Это как раз очень объяснимо. Дело в том, что к знанию египетских жрецов восходили, как полагают многие, масонские тайны. Считается, что тайны Египта перешли потом почти во все эзотерические учения. Есть в этом какое-то свое очарование, особенно если учесть, что после Блаватской существует огромная мода на мистику, теософию, потом на антропософию Штайнера. Естественно, источником всех тайн считается древнеегипетская цивилизация. Тайны пирамид, иероглифов – всё это такая пряная экзотика Серебряного века. Но надо иметь в виду, что Александрия Кузмина – это совсем не египетская Александрия. Он описывает совершенно другие вещи. Строго говоря, он описывает скорее то, что он любит в Средневековье. Кузмин сам признавался, что больше всего он любит пейзажи и цитаты XVIII века. Конечно, чисто внешние приметы Александрии, которые у него появляются, придают какое-то романтическое очарование этим текстам, но на самом деле это совсем другое. Это описание рая, каким он ему представляется.
Конечно, это страшная эклектика, и напихано сюда всё, что он любит в мировой культуре. Именно поэтому Александрия становится для него постепенно и символом роскоши, и символом утонченности, и символом смерти, наступившей в высший момент пресыщения:
У Кузмина есть удивительная особенность, совершенно волшебная, очень редкая в русской литературе, почему он и считается основателем в русской литературе школы прекрасной ясности, кларизма, как он сам называл. Не зря его поэтому Мандельштам называл «птица певчая», а Блок называл художником до мозга костей. Кузмин совсем не моралист. Действительно, не говоря уж о знаменитом «Где слог найду, чтоб описать прогулку, / Шабли во льду, поджаренную булку / И вишен спелых сладостный агат?», бог бы с ним. Дело не в культе наслаждения. Дело в каком-то ощущении безгрешности, невинности этого наслаждения. Может быть, Кузмин в «Александрийских песнях» так прекрасен именно потому, что это невинная, во многом детская радость, какая-то такая органичность порока, когда он не воспринимается как что-то порочное. И смерть приходит естественно в этом мире, приходит под звуки далёких флейт, как высшая точка наслаждения, как высшая форма блаженства.
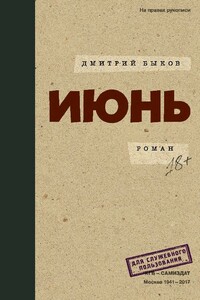
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.
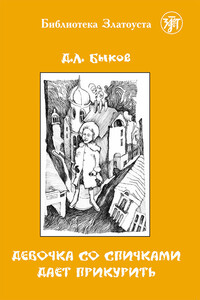
Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

Дмитрий Быков — одна из самых заметных фигур современной литературной жизни. Поэт, публицист, критик и — постоянный возмутитель спокойствия. Роман «Оправдание» — его первое сочинение в прозе, и в нем тоже в полной мере сказалась парадоксальность мышления автора. Писатель предлагает свою, фантастическую версию печальных событий российской истории минувшего столетия: жертвы сталинского террора (выстоявшие на допросах) были не расстреляны, а сосланы в особые лагеря, где выковывалась порода сверхлюдей — несгибаемых, неуязвимых, нечувствительных к жаре и холоду.

«История пропавшего в 2012 году и найденного год спустя самолета „Ан-2“, а также таинственные сигналы с него, оказавшиеся обычными помехами, дали мне толчок к сочинению этого романа, и глупо было бы от этого открещиваться. Некоторые из первых читателей заметили, что в „Сигналах“ прослеживается сходство с моим первым романом „Оправдание“. Очень может быть, поскольку герои обеих книг идут не зная куда, чтобы обрести не пойми что. Такой сюжет предоставляет наилучшие возможности для своеобразной инвентаризации страны, которую, кажется, не зазорно проводить раз в 15 лет».Дмитрий Быков.

Кто такие интеллектуалы эпохи Просвещения? Какую роль они сыграли в создании концепции широко распространенной в современном мире, включая Россию, либеральной модели демократии? Какое участие принимали в политической борьбе партий тори и вигов? Почему в своих трудах они обличали коррупцию высокопоставленных чиновников и парламентариев, их некомпетентность и злоупотребление служебным положением, несовершенство избирательной системы? Какие реформы предлагали для оздоровления британского общества? Обо всем этом читатель узнает из серии очерков, посвященных жизни и творчеству литераторов XVIII века Д.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.