Врата смерти - [17]
‹…›
Он застонал громче. Со стоном усилилась и боль. Она выросла неизмеримо; она проткнула его тысячью кинжалов. Вот она, тысяча гвоздей Распятья. Каждого, каждого в свой черед распинают. Он вдруг все понял. Неистовым светом высветился весь темный ранее мир. Каждый, кто умирает, должен в полной мере ощутить то, что испытывал Господь на Кресте. Каждый человек идет по земле своим Голгофским Путем, и у каждого в конце Пути — Лысая Гора, лысый земляной череп, и седые волосы вьюги, несомые ветром, летят по нему. Земля ведь тоже думает, Николай. Она думает так: сколько же людишек живет и копошится на мне и как же они мне надоели. Хорошо еще, хоть умирают. А то я б от них задохнулась. Рыбу мою ловят… в водоемы мои гадят… взрывают меня, мнут гусеницами танков, кровью поливают — и думают: любовь взойдет… Идиоты. Любовь взойдет от любви. Не от крови.
Нет! Не воскресит! Грешен…
Какая мука. Какая огромная мука смерть. Вот она какая, его Голгофа. Пустая палата. Храпящие рты. Острый лекарственный запах. Одиночество. И высокая ледяная звезда за морозным окном, и золотая луна, равнодушно глядящая на последние земные минуты его.
Так было. Так будет. О, какая боль. Господи! Подержаться бы за что-нибудь! Нет ничего под рукой.
Он, ища вокруг себя руками, схватил, сжал, рванул край одеяла. Слепо шаря, схватился за никелированую решетку кровати у себя над головой. Скорей бы кончилась эта дикая боль. Надо прочитать молитву. Он зашевелил губами, и тут все его длинное, долгое, как вся его жизнь, тело выкрутило, как прачка отжимает белье; он весь выгнулся в дикой судороге и понял, что оскалился, что прикусил себе язык от боли, и лишь луна видела, как сверкнули во тьме его старые пожелтелые зубы. Усмешка Смерти. Луна ответила ей. Он схватился за решетку изголовья другой рукой и выгнул спину, как в столбняке. Вся его жизнь пробежала перед его глазами. Растаяла во тьме. Осталась только боль. Великая боль — и великая тьма, что надвигалась со всех сторон, брала в кольцо, как охотники настигают загнанного собаками волка. Один! Он умирает один. Такая судьба. А ведь все могло быть иначе. С родными не так страшно. Девочка… ее глаза, ее нежные пальцы…
‹…›
Он опять схватил воздух ртом, зубами, как зверь хватает кусок последнего мяса. Они все! Те! Те, кто умер до него! Раньше него! Их убивали! Там, на аренах, в цирках, и весь амфитеатр глядел, как в грудь вонзали трезубец, как лев наседал на несчастного его брата, вбирая орущую голову в пасть, и зубы смыкались на висках, на темени, и кости хрустели, и кровь лилась! Вот им было страшно, да! Горящие живые факелы на крестах! Верую, Господи, и вечно буду веровать! Их сжигали живьем во Имя Господне, ты, жалкий раб, маловерный смертный! Ты мог бы так, как они?!
‹…›
Он отцепил руку от блестящей стальной решетки, поднес, дрожащую, к лицу. Хотел перекреститься. Рука уже не повиновалась ему. Он только успел приложить сложенные щепотью пальцы ко лбу и к груди, а до правого плеча кисть уже не донес. Кисть. Живая кисть. Сколько холстов… сколько стен, храмов, фресок, церквей… какой черный, угольный фон, на таком фоне надо бы фигуры все прописать золотом, чтоб они горели, выступая из мрака, и нимбы намалевать тоже ярко-золотые, сусальные, чтобы входящие во храм сразу озарялись вышним светом, поднимали головы, крестились… крестились… он уже… не успел…
Мука мученическая подошла, подкатилась от ног через живот к его голове. Голова вспыхнула. Он, не открывая глаз, увидел: во тьме палаты разлилось гордое золотое сиянье. Радость. Сколько радости. Да, ему удалось все же это написать. Не сфумато. Не дымку. Не горький туман. Этот яркий, горний золотой небесный свет, сияющий невыносимо, победно. Через боль. Сквозь муку и скрежет зубовный. Сквозь навалившиеся, властные руки Тьмы, обнимавшие его. ‹…›
‹…›
Я вскочила, помню, в ночном купе скорого трансъевропейского экспресса, мчавшегося от Парижа — через Лион — Страсбург — Саарбрюккен — Нойштадт — Прагу — Чоп — Ужгород — в Москву, столицу нашей сошедшей с ума окончательно Родины. В купе было зачем-то три полки — одна над другой. Попутчика не было; муж улегся внизу, я — всегда любила этот птичий насест — вспрыгнула на верхнюю полку. Ночь, за кормой железного корабля осталась Злата Прага, ее башенки и мосты, ее бронзовый Рыцарь с золотым мечом, стоящий под мостом в реке, во Влтаве… Мы везли домой картины — муж написал их везде: в Париже, в Лионе, в Праге. Он запечатлел Европу, Европа побыла немного его натурщицей. Европа поработала, она старательно позировала художнику, и художник сосредоточенно писал ее, не скрывая ни ее возраста, ни ее морщин, ни ее высохших каменных рук. А вот глаза у нее были юные — зеленые, как Сена, синие, как Влтава, безумные, как безумная бурная Рона в обрамлении кудрявых виноградников.
Муж спал. Поезд шел. Я проснулась.
Я проснулась оттого, что в наше купе вошел отец.
Он вошел в том зимнем пальто, в котором он ходил зимой — в пестром, как перепелиное яйцо, с воротником из темной цигейки; на затылок сдвинул шапку — все ту же, мохнатую, белесую; и от него все так же хорошо пахло, приятными мужскими духами, счастьем и теплом, как всегда, когда я целовала его и прижималась к нему. Он стоял у двери и не приближался ко мне. И я прижала руки к груди и заплакала.

В танце можно станцевать жизнь.Особенно если танцовщица — пламенная испанка.У ног Марии Виторес весь мир. Иван Метелица, ее партнер, без ума от нее.Но у жизни, как и у славы, есть темная сторона.В блистательный танец Двоих, как вихрь, врывается Третий — наемный убийца, который покорил сердце современной Кармен.А за ними, ослепленными друг другом, стоит Тот, кто считает себя хозяином их судеб.Загадочная смерть Марии в последней в ее жизни сарабанде ярка, как брошенная на сцену ослепительно-красная роза.Кто узнает тайну красавицы испанки? О чем ее последний трагический танец сказал публике, людям — без слов? Язык танца непереводим, его магия непобедима…Слепяще-яркий, вызывающе-дерзкий текст, в котором сочетается несочетаемое — жесткий экшн и пронзительная лирика, народный испанский колорит и кадры современной, опасно-непредсказуемой Москвы, стремительная смена городов, столиц, аэропортов — и почти священный, на грани жизни и смерти, Эрос; но главное здесь — стихия народного испанского стиля фламенко, стихия страстного, как безоглядная любовь, ТАНЦА, основного символа знака книги — римейка бессмертного сюжета «Кармен».

Что это — странная игрушка, магический талисман, тайное оружие?Таинственный железный цветок — это все, что осталось у молоденькой дешевой московской проститутки Аллы Сычевой в память о прекрасной и страшной ночи с суперпопулярной эстрадной дивой Любой Башкирцевой.В ту ночь Люба, давно потерявшая счет любовникам и любовницам, подобрала Аллочку в привокзальном ресторане «Парадиз», накормила и привезла к себе, в роскошную квартиру в Раменском. И, натешившись девочкой, уснула, чтобы не проснуться уже никогда.

Русские в Париже 1920–1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине — может, уже никогда не придется ее увидеть. И — великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами. Княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война. Роман Елены Крюковой о русской эмиграции во Франции одновременно символичен и реалистичен. За вымышленными именами угадывается подлинность судеб.

Ром – русский юноша, выросший без родителей. Фелисидад – дочка прекрасной колдуньи. Любовь Рома и Фелисидад, вспыхнувшая на фоне пейзажей современной Латинской Америки, обречена стать роковой. Чувства могут преодолеть даже смерть, но им не под силу справиться с различием культур и национальностей…
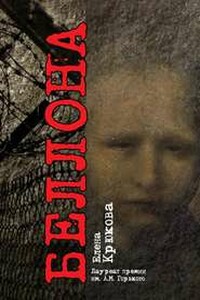
Война глазами детей. Так можно определить объемное пространство нового романа Елены Крюковой, где через призму детских судеб просматриваются трагедии, ошибки, отчаяние, вражда, победы и боль взрослого мира. "Беллона" - полотно рембрандтовских светотеней, контрастное, эмоционально плотное. Его можно было бы сопоставить с "Капричос" Гойи, если бы не узнаваемо русская широта в изображении батальных сцен и пронзительность лирических, интимных эпизодов. Взрослые и дети - сюжетное и образное "коромысло" книги.

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».
