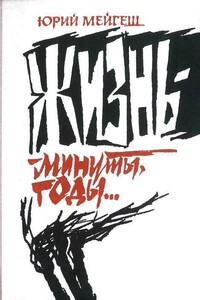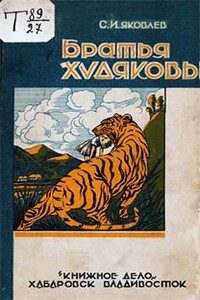— Это письмо исключительной важности. Лев Николаевич написал ответ Мунтьянову, тому самому революционеру, который требовал насилием уничтожить класс имущих и всех их отпрысков, вплоть до грудных младенцев. Мы с Александрой Львовной хотели бы сохранить несколько копий этого письма.
Самуил Моисеевич вытащил лист, заложил новый в машинку.
— Диктуйте.
Булгаков диктовал медленно, ровным голосом, как учитель:
— «Я долго думал, перед тем как ответить вам. По моему глубокому убеждению, ни вы, ни я, ни правительство, ни революционеры, никто на свете не призван к тому, чтобы устраивать жизнь человеческую по своему разумению и мстить тем, кто, по их мнению, дурно поступает. Есть только одно, к чему мы призваны и что в нашей власти, — прожить свою жизнь честно и хорошо».
По лестнице прошла, поднимаясь на второй этаж, очень встревоженная Татьяна Львовна, приехавшая накануне погостить у родных. Вошла в комнату Софьи Андреевны и сказала в большом недоумении:
— Мама, тебя там, внизу, спрашивает какая-то образина.
Софья Андреевна всегда бывала очень недовольна, когда ее отрывали от хозяйственных книг. Спросила нервно:
— Что значит «образина»?
— Ну извини за выражение. Я хотела сказать — тип с отталкивающей внешностью. Прямо разбойник какой-то.
Софья Андреевна отложила перо, подошла к окну и посмотрела во двор.
— Господь с тобой, Танечка! Этот черкес наш новый охранник Ахмет. Ты просто редко бываешь у нас и потому не видела еще его.
Татьяна Львовна стояла растерянная.
— Мама, мы всегда поражались, с каким умением вы с папой подбираете и воспитываете прислугу в доме. Они для нас свои, родные люди, и мне просто не верится, что среди этих добрых и милых людей окажется этот разбойник…
Софью Андреевну снова передернуло.
— Видишь ли, Танечка… Людей добрых и милых обворовывают кому только не лень. Я устала от их хороших и милых лиц, мне нужен человек, который бы не дал нашему состоянию растекаться по чужим карманам, а это могут делать только такие люди, как Ахмет.
— Но, мама, я надеюсь, что ты хоть положила ему какой-то срок, чтобы выяснить его способности, его характер…
— Да, конечно… Я дала ему две недели сроку, и сегодня как раз они вышли, потому он и заспешил чуть свет… Если тебе не трудно, передай, пожалуйста, — пусть напоят его чаем. Потом я выйду к нему.
— Чует мое сердце — будет большой скандал в доме из-за этого Ахмета.
— Ах, Танечка, у нас и так с утра до вечера одни скандалы. Ну будет еще один — так стоит ли беспокоиться?!
— Мама, мы на виду всего мира, у нас с утра до вечера поклонники папы, друзья литературы, наконец, его ученики.
Часов в десять Софья Андреевна вышла к дожидавшемуся в большом зале Ахмету. Она говорила с ним сухим и властным голосом русской барыни:
— Тебе по силам должность, на которую тебя наняли?
— Я сделаль ваши именья порядок.
— Ты грамотен?
— Немного. Печатная буква я хорошо умей.
— Доводилось ли тебе когда-нибудь читать сочинения моего мужа, Льва Николаевича?
— Если будет такое ваше приказание…
— Нет, такого приказания не будет… Просто так, к слову пришлось. Ружье тебе купили?
— Патронов мало. Моя служба требует много пороху и дробь.
— Есть у тебя еще какие-нибудь просьбы?
— Нет. Пороху, дроби и, если можно, еще одну порцию овса для лошадь.
— Хорошо.
Когда Софья Андреевна вернулась наверх, к себе, она застала Татьяну Львовну опечаленной и расстроенной, Это случалось редко с жизнелюбивой и веселой Танечкой, и потому Софья Андреевна спросила, чем объяснить перемену в ее настроении.
— Папа видел уже этого Ахмета?..
— Право, не знаю… А почему это тебя так занимает?..
— Да ведь я помню, что было, когда наказали мужика, ловившего рыбу у нас в прудах…
Время шло, был уже одиннадцатый час, а Лев Николаевич все еще не выходил из своей комнаты. В молодости он сравнительно легко переносил приступы, а к старости мучительно долго и трудно выбирался обратно на свою стезю. Теперь он лежал на спине, а его старческие полусогнутые руки лежали на одеяле, словно он за пояс держался. Правая рука, вернее, три пальца правой руки, которыми он писал, вздрагивали, точно он водил пером по бумаге. Доктор Маковицкий сидел рядом на стуле, внимательно следил за правой рукой больного. Когда она стихала, он брал со стола чистый лист бумаги, подкладывал под нее, и она, спохватившись, опять бежала с красной строки.
Маковицкий сидел и думал про себя: «О, этот барин, этот великий труженик духа человеческого! Обычно самые глубокие жизненные инстинкты реакция на свет, стоит лишь приподнять веко, ритм дыхания, откликающийся почти всегда на избыток или недостаток кислорода, вкусовые рефлексы, освежающиеся после глотка воды. У Льва Николаевича все иначе. Вернее, все эти инстинкты присутствуют, но они приглушены, и самым активным инстинктом, доказующим присутствие жизни в организме, стали три пальца на правой руке, которыми он водит по бумаге. И, будучи в беспамятстве, машинально исписав десяток страниц, он испытывает облегчение, приходит в себя и начинает поправляться…»
После поездки тульского губернатора в Петербург в его канцелярии был установлен аппарат для особо важной и срочной связи. Едва его установили, едва дежурный чиновник занял свое место, как аппарат застрекотал: 63293 12819 51392 55847 и так далее на двух страничках. До сих пор еще добрая часть зашифрованных телеграмм, которыми пользовалась царская охранка, не расшифрована. Подумать только — прочтены уже древнейшие глиняные таблички Египта, пролежавшие в земле не одну тысячу лет, а циркуляры командира жандармского корпуса генерала Курлова лежат, покрытые тайной…