Война - [28]
Это молоденькая журналистка, ее оператор и два офицера.
— Позвольте вас поздравить, — говорит журналистка, подает мне мягкую, чересчур мягкую, руку и немного подтягивает этой рукой к себе. Не выпуская моей руки, она целует меня в щеку; улыбка у нее такая же, как в начале каждой ее телепрограммы. Оператор устанавливает камеру, на секунду склоняется над ней и нажимает одну из двух кнопок. «Только два вопроса, учитель», — говорит журналистка. От нее пахнет мылом, как будто она только что из душа, но почему запах мыла, исходящий от женщины, в этот раз меня раздражает? Она красивая, у нее влажные рыжие волосы, белая шляпа в руке, но рядом со мной она кажется нереальной. Она и ее оператор производят впечатление пришельцев из другого мира, какого? у них удивительно безразличные улыбки, все дело в темных очках? им хочется побыстрее закончить, это заметно по их мимике, журналистка снова говорит мне что-то, чего я уже не слушаю, не хочу слушать; я пытаюсь понять себя: ведь она просто выполняет свою работу, на ее месте могла бы оказаться моя дочь, но я не хочу и не могу говорить; я делаю шаг назад и тычу пальцем себе в рот, один, два, три раза, показывая, что я немой. Она изумленно замирает на полуслове, смотрит на меня, не веря своим глазам, — можно подумать, что она сейчас засмеется. Но нет. Ее охватывает что-то вроде негодования: «Какой невоспитанный сеньор», — говорит она.
— Сегодня учитель решил быть немым, — кричит кто-то в толпе.
Со всех сторон раздается смех. Я иду в свою комнату, закрываю дверь и больше не выхожу — стою, уткнувшись лбом в деревянную дверь, и слушаю, как потихоньку, не спеша расходятся люди. Где-то прямо под дверью мяукают Уцелевшие, подсказывая мне, что можно выходить. В доме никого нет, хотя дверь открыта, сколько времени? невозможно поверить: уже вечер. Даже голод не подсказал мне, как это бывало раньше, который час. Нужно не забывать есть. А забыл я, видимо, потому, что нет электричества. Я иду к двери на улицу и сажусь на стул ждать Отилию, а пока читаю при свете угасающего дня письма Марии. В обоих письмах она пишет, хотя, наверно, слишком поздно, одно и то же: чтобы мы переезжали к ней, в Попайан, что ее муж согласен, что она настаивает. Чтобы ты написала ей письмо, Отилия, почему ты ей не пишешь. Теперь мне придется написать за тебя. Что я ей скажу. Скажу, что Отилия больна, не может писать и шлет привет, возможно, это плохая новость, но в ней есть надежда, оно в тысячу раз лучше, чем признаться в самом плохом: что ее мать исчезла. Мы пока не хотим ехать, скажу я ей, зачем сейчас ехать? это были бы твои слова, Отилия; в любом случае спасибо за предложение и благослови вас Бог, мы будем иметь в виду, но нам нужно подумать, нам нужно время, чтобы освободить дом, время, чтобы оставить то, что нужно оставить, время, чтобы упаковать то, что мы хотим взять с собой, время, чтобы навсегда проститься, время, чтобы на все хватило времени. Раз уж мы прожили здесь целую жизнь, что решают несколько недель? мы подождем, вдруг обстановка изменится, а, если не изменится, тогда посмотрим: либо уедем, либо умрем, так уж Бог решил, и пусть будет, как решил Бог, как пришло Богу в голову, как Богу по душе.
— Учитель, не надо вам здесь спать, на стуле.
Меня будит сосед, которого я знаю, но сейчас не могу вспомнить. Он держит бензиновую лампу, горящую вполнакала — временами пламя ярко вспыхивает, испуская желтоватые снопы света, полные комаров.
— Они вас живьем съедят, — говорит он.
— Сколько времени?
— Поздно, — говорит он удрученно. — Для этого города поздно, а для остального мира — поди знай.
— Тоже, — говорю я.
Он словно меня не слышит. Он вешает лампу на щеколду, садится на корточки, упирается спиной в стену, снимает шляпу, обнажив бритую потную голову, шрам на лбу, крошечные уши и прыщавый затылок, и начинает обмахиваться ею, как веером. Я точно знаю этого человека, но не помню, кто он, разве это возможно? В полутьме я замечаю, что один глаз у него косит.
— Зайдем в дом, — предлагаю я, — выпьем на кухне кофе.
Непонятно, почему я это говорю, когда на самом деле хочу наконец лечь спать в собственную постель, назло всему миру, как будто меня не волнуют похищения людей, и пусть никто не лезет в мои дела, я хочу спать мертвым сном; почему я это говорю, если, кроме всего прочего, человек с лампой, кем бы он ни был в моей памяти, вызывает у меня отвращение и тревогу — дело в бензиновой вони, в тембре его голоса, в странной манере говорить?
Увидев, что я зажигаю на кухне свечу, он сразу гасит фонарь. «Для экономии», — говорит он, хотя мы оба знаем, что свечи в городе тоже на исходе. Он садится на пол и играет с Уцелевшими. Это очень странно, потому что Уцелевшие не позволяют себя трогать никому, кроме Отилии, а сейчас мурлычут и сладко трутся о ноги и руки этого человека. Он босой, его ступни покрыты пылью и потрескавшейся грязью, и, если мне не изменяет зрение, подпорченное неверным светом, то я сказал бы, что и кровью.
— Вы первый во всем городе пригласили меня на кофе, — говорит он и добавляет, садясь на место Отилии, — за все эти годы.

Номер открывается романом колумбийского прозаика Эвелио Росеро (1958) «Благотворительные обеды» в переводе с испанского Ольги Кулагиной. Место действия — католический храм в Боготе, протяженность действия — менее суток. Но этого времени хватает, чтобы жизнь главного героя — молодого горбуна-причётника, его тайной возлюбленной, церковных старух-стряпух и всей паствы изменилась до неузнаваемости. А все потому, что всего лишь на одну службу подменить уехавшего падре согласился новый священник, довольно странный…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
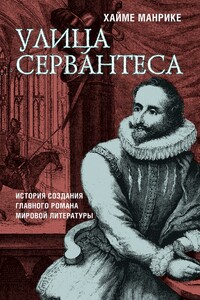
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это история о матери и ее дочке Анжелике. Две потерянные души, два одиночества. Мама в поисках счастья и любви, в бесконечном страхе за свою дочь. Она не замечает, как ломает Анжелику, как сильно маленькая девочка перенимает мамины страхи и вбирает их в себя. Чтобы в дальнейшем повторить мамину судьбу, отчаянно борясь с одиночеством и тревогой.Мама – обычная женщина, та, что пытается одна воспитывать дочь, та, что отчаянно цепляется за мужчин, с которыми сталкивает ее судьба.Анжелика – маленькая девочка, которой так не хватает любви и ласки.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
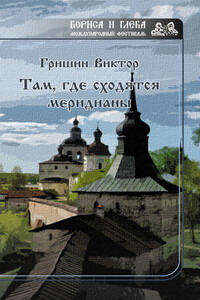
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.
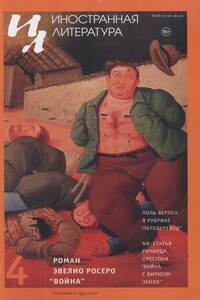
Два путевых очерка венгерского писателя Яноша Хаи (1960) — об Индии, и о Швейцарии. На нищую Индию автор смотрит растроганно и виновато, стыдясь своей принадлежности к среднему классу, а на Швейцарию — с осуждением и насмешкой как на воплощение буржуазности и аморализма. Словом, совесть мешает писателю путешествовать в свое удовольствие.
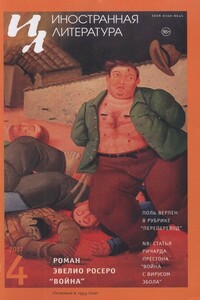
Рубрика «Переперевод». Известный поэт и переводчик Михаил Яснов предлагает свою версию хрестоматийных стихотворений Поля Верлена (1844–1896). Поясняя надобность периодического обновления переводов зарубежной классики, М. Яснов приводит и такой аргумент: «… работа переводчика поэзии в каждом конкретном случае новаторская, в целом становится все более консервативной. Пользуясь известным определением, я бы назвал это состояние умов: в ожидании варваров».
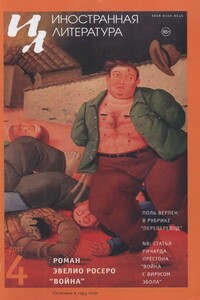
Несколько рассказов известной современной американской писательницы Лидии Дэвис. Артистизм автора и гипертрофированное внимание, будто она разглядывает предметы и переживания через увеличительное стекло, позволяют писательнице с полуоборота перевоплощаться в собаку, маниакального телезрителя, девушку на автобусной станции, везущую куда-то в железной коробке прах матери… Перевод с английского Е. Суриц. Рассказ монгольской писательницы Цэрэнтулгын Тумэнбаяр «Шаманка» с сюжетом, образностью и интонациями, присущими фольклору.
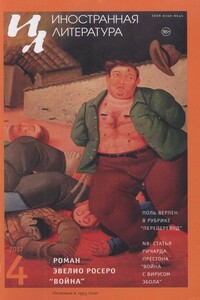
Во вступлении, среди прочего, говорится о таком специфически португальском песенном жанре как фаду и неразлучном с ним психическим и одновременно культурном явлении — «саудаде». «Португальцы говорят, что saudade можно только пережить. В значении этого слова сочетаются понятия одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления».