Война - [23]
— Кристина! — кричу я. — Ты ранена?
— Нет, — отвечает она наконец и вылезает из-под кровати.
После всего, что случилось, после всего, что творится вокруг, я чувствую ужас и отвращение к самому себе, потому что вольно или невольно замечаю в скудном пламени свечи задравшееся платье, худенькие бледные бедра, темную поросль между ног; лицо Кристины залито слезами, она снова испуганно спрашивает: «А мама?». Она прижимает к себе старого плюшевого медведя моей дочери. Совсем девчонка, могла бы быть моей внучкой.
— Если хочешь, можешь пойти ее искать, — говорю я. — Хочешь вернуться, возвращайся, не хочешь — не возвращайся, только перестань плакать.
— Но как? — с трудом отвечает она. — Слезы сами текут.
— Сейчас не время плакать, Кристина. Я не предлагаю тебе смеяться, я только говорю, что поиски тех, кого мы ищем, требуют сил. А от слез слабеешь.
То же самое я повторяю себе самому.
Она выходит из дома, громко хлопнув дверью, и убегает в ночь — в ночь, которая вынуждена расстилаться над землей так же, как улица: в безлюдье. Я сижу на кровати дочери, со свечой в руке, и чувствую, как капает мне на руку воск, как гаснет в пальцах фитиль, как воняет моей собственной паленой кожей — и так до рассвета. Ты не вернулась, Отилия, ни раньше меня, ни позже. Придется снова идти тебя искать, но куда? куда ты могла пойти искать меня?
Я слышу: запели птицы, запели, несмотря ни на что. Передо мной проступает сад, рассеченный частицами света; утро сегодня бледное; на кухне мяукают уцелевшие коты. Я делаю то же, что сделала бы Отилия: даю им хлеба с молоком и сам завтракаю тем же; я один из твоих котов, думаю я, и вспоминаю про мертвого кота; нужно его закопать, чтобы ты, Отилия, не увидела его мертвым. Я иду к дереву: растерзанный кот на месте, и я хороню его под деревом. Лачуга маэстро Клаудино — последнее пристанище, куда ты могла пойти меня искать, Отилия, я ведь рассказал тебе, что хочу подарить маэстро курицу, — значит, ты там: там тебя застала война, там тебя застану и я, и отправлюсь туда немедленно, повторяю я с уверенностью, с упрямством, похожим на свет в густом тумане, который люди называют надеждой.
Но сначала я разыскиваю и ловлю в саду бразильца одну из кур, моих кур, решивших переселиться на соседский участок. Через стеклянную дверь я чувствую взгляд погруженной в траур Жеральдины — она изумленно наблюдает, как я гоняюсь за курицей, настигаю ее наконец и, смеясь, запихиваю в рюкзак: будет у нас с Отилией и маэстро Клаудино куриный суп. Я возвращаюсь домой через пролом в ограде, так и не вспомнив, что забыл поздороваться с Жеральдиной, и не попрощавшись с ней. На пустынных улицах города я сразу забываю про войну и чувствую только горячую курицу под мышкой, думаю только о курице, о ее волшебном спасении, о маэстро Клаудино, Отилии, собаке, лачуге, обо всех нас, уютно сидящих вокруг котелка с куриным супом, за тридевять земель, на неуязвимой синей горе — той, что высится сейчас передо мной, наполовину скрытая в тумане.
Самый последний дом на мощеной улице перед шоссе принадлежит Глории Дорадо. Маленький, но опрятный и чистый, окруженный манговыми деревьями — подарок Маркоса Сальдарриаги. Мне кажется, что в приоткрытой двери промелькнула Глория в белой пижаме с метлой в руке; она явно хотела мне что-то сказать, но не стала и закрыла дверь. Наверно, хотела поздороваться, но передумала, увидев мое сияющее лицо, такое неуместное рядом с печалью, в которой она живет с того дня, как пропал Сальдарриага. Уже на шоссе я слышу за спиной ее голос, голос Глории Дорадо, странной мулатки со светлыми глазами, ради которой всегда так лез из кожи Сальдарриага:
— Будьте осторожны, учитель. Мы до сих пор не знаем, в чьих руках город.
— Чьи бы они ни были, это одни и те же руки, — говорю я, прощаюсь и иду дальше. Как приятно оставить позади Сан-Хосе, по самые крыши затопленный одиночеством и страхом, когда у меня в душе есть уверенность, что наверху я найду Отилию.
Уже далеко за городом, рядом с конной тропой, когда ночь и рассвет еще не разделились окончательно, в кустах возникают три тени, выскакивают на меня и берут в кольцо, очень тесное, настолько тесное, что я не могу видеть их глаз. Нельзя понять, солдаты это или не солдаты, местные они, соседские или пришлые, но разве это важно? меня ждет Отилия… Что-то похожее на запах крови парализует меня, и я спрашиваю себя: неужели я и про войну позабыл? что со мной? Слишком поздно я сожалею, что не послушался Глории Дорадо: в чьих руках мы находимся — нужно было вернуться домой? а как же Отилия?
— Куда направляетесь, дед?
Они прижимаются ко мне, теснят, кончик ножа у живота, холод ствола на шее.
— Я иду за Отилией, — говорю я. — Она там, наверху.
— За Отилией, — эхом повторяют они.
Один из троих говорит:
— Отилия — это кто же? Корова?
До этого я думал, что двое других хотят повеселиться, но повисает тишина, гнетущая и тревожная. А я-то принял все за шутку и обрадовался, что под их смех смогу сбежать вместе с курицей. Но они не шутили. Они действительно хотели знать, не о корове ли я говорю.
— Это моя жена. Я иду за ней наверх, на гору.

Номер открывается романом колумбийского прозаика Эвелио Росеро (1958) «Благотворительные обеды» в переводе с испанского Ольги Кулагиной. Место действия — католический храм в Боготе, протяженность действия — менее суток. Но этого времени хватает, чтобы жизнь главного героя — молодого горбуна-причётника, его тайной возлюбленной, церковных старух-стряпух и всей паствы изменилась до неузнаваемости. А все потому, что всего лишь на одну службу подменить уехавшего падре согласился новый священник, довольно странный…

Честно говоря, я всегда удивляюсь и радуюсь, узнав, что мои нехитрые истории, изданные смелыми издателями, вызывают интерес. А кто-то даже перечитывает их. Четыре книги – «Песня длиной в жизнь», «Хлеб-с-солью-и-пылью», «В городе Белой Вороны» и «Бочка счастья» были награждены вашим вниманием. И мне говорят: «Пиши. Пиши еще».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.
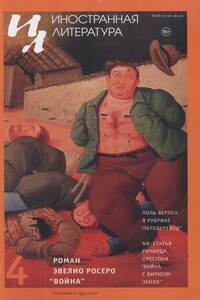
Два путевых очерка венгерского писателя Яноша Хаи (1960) — об Индии, и о Швейцарии. На нищую Индию автор смотрит растроганно и виновато, стыдясь своей принадлежности к среднему классу, а на Швейцарию — с осуждением и насмешкой как на воплощение буржуазности и аморализма. Словом, совесть мешает писателю путешествовать в свое удовольствие.
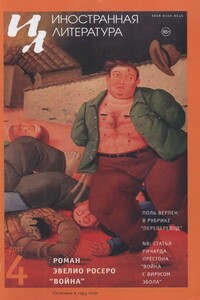
Несколько рассказов известной современной американской писательницы Лидии Дэвис. Артистизм автора и гипертрофированное внимание, будто она разглядывает предметы и переживания через увеличительное стекло, позволяют писательнице с полуоборота перевоплощаться в собаку, маниакального телезрителя, девушку на автобусной станции, везущую куда-то в железной коробке прах матери… Перевод с английского Е. Суриц. Рассказ монгольской писательницы Цэрэнтулгын Тумэнбаяр «Шаманка» с сюжетом, образностью и интонациями, присущими фольклору.
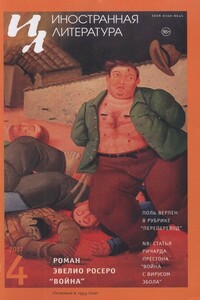
Рубрика «Переперевод». Известный поэт и переводчик Михаил Яснов предлагает свою версию хрестоматийных стихотворений Поля Верлена (1844–1896). Поясняя надобность периодического обновления переводов зарубежной классики, М. Яснов приводит и такой аргумент: «… работа переводчика поэзии в каждом конкретном случае новаторская, в целом становится все более консервативной. Пользуясь известным определением, я бы назвал это состояние умов: в ожидании варваров».
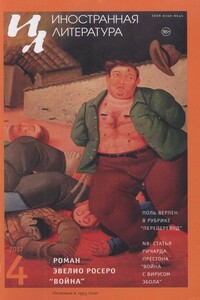
Во вступлении, среди прочего, говорится о таком специфически португальском песенном жанре как фаду и неразлучном с ним психическим и одновременно культурном явлении — «саудаде». «Португальцы говорят, что saudade можно только пережить. В значении этого слова сочетаются понятия одиночества, ностальгии, грусти и любовного томления».