Вот оно, счастье - [102]
Церковная улица была неподвижна, словно картина. Пес Райана лежал возле Райанова дома, автомобиль Бурка стоял возле Буркова дома, Клохасси – возле Клохасси, возле Доланова – два трактора, слишком рано пока для основной клиентуры, какая выжимает из добавки дневного света все до капли, не приезжает, пока не смеркнется. У растрескавшегося склона погоста Святая Цецелия держала двери свои закрытыми, но лампада горела. В те времена двери закрывали, но никогда не запирали. У церкви была неприкосновенность, и ризничий Том Джойс сдался наивному или же святому правилу Отца Коффи никогда не поворачивать ключ (и не говорить Отцу Тому). Грех занят делом во всякий час, таково было жутковатое присловье Отца Коффи. Чтоб участвовать в борьбе на равных, у матери церкви должно быть так же.
Из-за чувств зажженных и чар мая, из-за все той же беспомощной тяги сделать так, чтобы сложился правильно сюжет, какой будет сопровождать меня все дни мои, вести меня сквозь все не обозначенные в сценарии смятенья, радости и промахи, из каких состоит проживаемая жизнь, я остановился у двери Аптеки.
Когда летишь в трех дюймах над землей, то рытвин не замечаешь. Я постучал в дверь уверенными костяшками нунция. Пес Райана поднял голову поглядеть, не случится ли пения.
Речи я никакой не заготовил. Во мне было свеченье. Сойдет для начала, а остальное воспоследует.
Из сумерек лавки появилась лампа. Йельский замок повернулся, дверь отворилась.
На меня смотрел доктор Трой. Был он человеком немногих выражений лица. Их у него имелось, может, штук пять, и все двоюродные друг другу, и все обусловлены усами и бровями. В глазах усталости больше, чем в любых других, какие доводилось мне видеть. Глубокие, маленькие и неподвижные, словно скорее не для того, чтобы смотреть вовне, а чтобы смотреть внутрь, то, что он наблюдал снаружи, стремительно укладывалось в общую и постоянно расширяющуюся категорию под названием “человечество”. Держа дверь открытой, он глазами вопрошал: Ты? – и усы его говорили то же самое или что похуже. Доктор Трой не двигался. Как и Софи чуть раньше, держал дверь распахнутой, и у меня повторно возникло ощущение Рубикона.
– Мисс Муни пригласила меня зайти.
– Мисс Муни?
– Миссис Гаффни. Велела зайти.
Усы что-то на это ответили. Такое и не повторишь. Доктор, скорее всего, припоминал, как и когда видел меня, как я ускользал после вечера с его дочерью, добавлял это к тому идиоту, что нырнул головой вниз с трапа, к тому бродяге, что три дня топтался у его ворот, и несчастному олуху, пытавшемуся удержать электрический столб, – и застрял между клеклой жалостью ко мне и порывом врезать мне по физиономии.
– Она велела тебе зайти?
– Да.
– Когда?
– Когда я заходил последний раз.
– Ты?..
– Я ее друг.
Доктор Трой не шелохнулся. Глаза его не оставляли моих. Он применил еще одно выражение лица: язык подпер изнутри щеку. Затем он открыл дверь шире.
– Спасибо.
Дверь он запер изнутри, мы прошли лавку насквозь, и в дверях перед гостиной он произнес:
– Она там.
Доктор Трой стоял у подножия лестницы в сером костюме и жилетке, выдавая наружу не более, чем в любой иной раз, но тем не менее меняя собою пространство. Я поглядел на него. Он в ответ не выказал ничего, кроме горестной серьезности, и я прошел мимо него вверх по лестнице, с каждой ступенькой ощущая гнет ужаса.
Дверь в спальню Доктор оставил открытой. Анни сидела в постели, откинувшись на подушки, руки плашмя покоились на покрывале, волосы распущены. От боли глаза ее блестели. Когда она увидела меня, те же скобки поджатой улыбки возникли у ее рта, и я понял то, что знал, не сознавая, с самого начала.
– Ему говорить нельзя, – произнесла она.
39
В тот вечер я отправился в церковь. Не стесняюсь признаться в этом. Отчаяние задает свои правила, и мне там бывать доводилось.
После того как мама упала последний раз, жила она между креслом и кроватью. Не жаловалась. И от этого все делалось даже хуже, страдание ее было очевидным и лютым, и примирить одно с другим я не мог. Она утратила внутренний ватерпас, мир сделался неуравновешенным. Вставая, она ощущала, будто падает. Описывала, как это тревожит, но не расстроенно, а так, как будто просто что-то с нею происходящее, и полагала, что если некоторое время не вставать, то мир выровняется. Мать Аквина прислала открытки с Бернадеттой и святой Терезой Авильской, мама держала их у постели.
Тремор, появившийся у мамы в руках, она скрывала, перебирая четки. Нащупывала их на одеяле и крутила в пальцах, пока я рассказывал о том, как прошел день в школе. К чашке, пока я не уходил из ее спальни, не прикасалась. Однажды я вошел, когда она спала, и из-под подушки у нее виднелись листки. Блокнот белой бумаги из отцовской конторы, где страница за страницей шли мамины подписи. Да вот только не ее они были. Почерк пьяный, буквы перли друг на дружку, друг в дружку. Всякий раз, как выводила она свою подпись, получалось все менее и менее узнаваемо для нее самой. Она пробовала разные перья, пробовала двумя руками – одной держа другую, пробовала каждую букву по отдельности, с бесконечной медлительностью посреди зимнего вечера, пробовала изо всех сил удержать на ногах собственное самоопределение, но подпись все рушилась и рушилась, и в последних попытках виделся уже птичий почерк. Ей было слишком неловко за это, и она не заикалась об этом, молчал и я, молчал и отец.
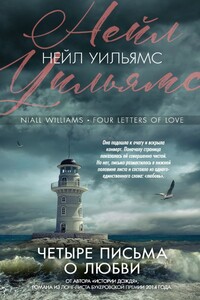
Никласу Килану было двенадцать лет, когда его отец объявил, что получил божественный знак и должен стать художником. Но его картины мрачны, они не пользуются спросом, и семья оказывается в бедственном положении. С каждым днем отец Никласа все больше ощущает вину перед родными… Исабель Гор – дочь поэта. У нее было замечательное детство, но оно закончилось в один миг, когда ее брат, талантливый музыкант, утратил враз здоровье и свой дар. Чувство вины не оставляет Исабель годами и даже толкает в объятия мужчины, которого она не любит. Когда Никлас отправится на один из ирландских островов, чтобы отыскать последнюю сохранившуюся картину своего отца, судьба сведет его с Исабель.
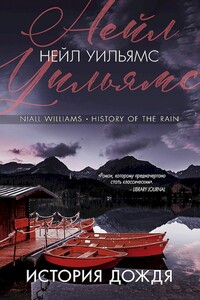
«История дождя», под звуки которого происходят значимые события в жизни девочки по имени Рут, — это колоритное смешение традиций, мифов и легенд. Рут не выходит из дома из-за неизвестной болезни. Она окружена книгами, которые принадлежали ее отцу Вергилию. Девочка много читает и однажды решает создать собственную версию жизни Вергилия. Она начинает издалека, с юности Абрахама, отца ее отца, который, чудом уцелев во время войны, покидает родной дом и отправляется в поисках удачи в живописную Ирландию. История Рут — это сказ о бесконечном дожде, который однажды обязательно закончится.

Село Белогорье. Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Воскресная литургия. Молитвенный дух объединяет всех людей. Среди молящихся есть молодой парень в инвалидной коляске, это Максим. Максим большой молодец, ему все дается с трудом: преодолевать дорогу, писать письма, разговаривать, что-то держать руками, даже принимать пищу. Но он не унывает, старается справляться со всеми трудностями. У Максима нет памяти, поэтому он часто пользуется словами других людей, но это не беда. Самое главное – он хочет стать нужным другим, поделиться своими мыслями, мечтами и фантазиями.

Скорее рассказ, чем книга. Разрушенные представления, юношеский максимализм и размышления, размышления, размышления… Нет, здесь нет большой трагедии, здесь просто мир, с виду спокойный, но так бурно переживаемый.

Валенсия мечтала о яркой, неповторимой жизни, но как-то так вышло, что она уже который год работает коллектором на телефоне. А еще ее будни сопровождает целая плеяда страхов. Она боится летать на самолете и в любой нестандартной ситуации воображает самое страшное. Перемены начинаются, когда у Валенсии появляется новый коллега, а загадочный клиент из Нью-Йорка затевает с ней странный разговор. Чем история Валенсии связана с судьбой миссис Валентайн, эксцентричной пожилой дамы, чей муж таинственным образом исчез много лет назад в Боливии и которая готова рассказать о себе каждому, готовому ее выслушать, даже если это пустой стул? Ох, жизнь полна неожиданностей! Возможно, их объединил Нью-Йорк, куда миссис Валентайн однажды полетела на свой день рождения?«Несмотря на доминирующие в романе темы одиночества и пограничного синдрома, Сьюзи Кроуз удается наполнить его очарованием, теплом и мягким юмором». – Booklist «Уютный и приятный роман, настоящее удовольствие». – Popsugar.
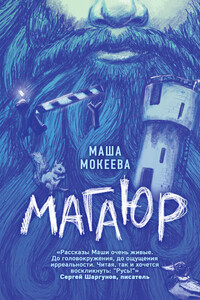
Маша живёт в необычном месте: внутри старой водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при свете керосиновой лампы, винтовая лестница проржавела, повсюду сквозняки… И вместе с Машей в этой башне живет мужчина по имени Магаюр.
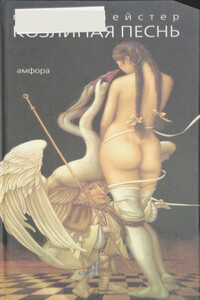
Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.

Роман, написанный поэтом. Это многоплановое повествование, сочетающее фантастический сюжет, философский поиск, лирическую стихию и языковую игру. Для всех, кто любит слово, стиль, мысль. Содержит нецензурную брань.