Воспоминания петербургского старожила. Том 1 - [177]
К числу рельефнейших странностей Карла Иваныча принадлежала страсть его везде отыскивать и исправлять грамматические ошибки, и при этих поправках он ставил множество запятых, из которых нельзя сказать, чтобы все были у места. Когда же кто-нибудь дозволял себе входить с Карлом Иванычем в маленький грамматический диспут и ссылался на авторитет Греча или Востокова[1214], тогда бледное, изрытое оспою лицо Карла Иваныча делалось сине-багровым, белесоватые глаза расширялись и готовы были выскочить из своих орбит, голос дрожал, на губы набегала пена, и он восклицал: «Что вы пристаете ко мне с вашими Гречем и Востоковым? Я сам себе Греч и Востоков!» Страсть к поправкам доходила у Карла Иваныча до того, что он, читая какую-нибудь даже входящую бумагу, непременно исчерчивал ее карандашом, ставя запятые там, где их, как ему казалось, было мало, и уничтожая деепричастия, заменяемые им наречиями.
Ежели бы кто хотел удостовериться в том, что пишущий теперь эти строки не фантазирует, а рассказывает голые факты, тот пусть постарается, чрез какое-нибудь знакомство, проникнуть в архив бывшего Департамента внешней торговли, что ныне Департамент таможенных сборов, и там пусть посмотрит дела с 1827 по 1840 год, т. е. за все время пребывания Карла Иваныча начальником второго отделения. Можно смело держать пари, что в каждом таком деле встретится несколько входящих бумаг, измаранных, в грамматическом отношении, карандашом Карла Иваныча, восстановлявшего в чужих бумагах грамматические красоты. Раз, однако, ему случилось, как выражаются школьники, страшно срезаться, по простонародному выражению – опростоволоситься.
Это случилось в 1830 году, когда между Министерством финансов и Министерством иностранных дел шла довольно энергическая переписка по поводу одного из тарифов, которые у нас являлись тогда довольно часто. В эту пору попалась Карлу Иванычу одна бумага конфиденциальная, написанная по-французски графом Карлом Васильевичем Нессельроде. Карл Иваныч имел слабость считать себя пуристом даже и во французском правописании, хотя объяснялся он на французском диалекте немножко вроде покойного генерала от кавалерии Федора Петровича Уварова, называвшего зрительную трубу la pipe á regarder[1215] и на вопрос Наполеона (разумеется, первого): «Qui commande ce beau corps de cavalerie?» – отвечал без запинки: «Je, sire!»[1216] – Как бы то ни было, а Карл Иваныч в пылу корректорского увлечения схватил на этот раз уже не карандаш, который уничтожается резинкой, а перо, обмакнутое в сине-лазоревые чернила, и ну поправлять, да не только запятые, а буквы и даже целые слова в этой подлинной автографической, да еще вдобавок секретной бумаге. К несчастью, бумага эта потребовалась к докладу министру, и старик Канкрин сквозь свои темно-зеленые огромные очки увидел поправки грамматического свойства на рукописи министра иностранных дел, которого знанию тонкостей французского языка отдавал справедливость, в свое время, даже знаменитый Талейран. Егор Францевич Канкрин смотрел медведем, не имел изящных манер, напротив, тривиальность и вульгарность доводил до излишества, сморкаясь иногда без помощи платка, и пил из горлышка бутылки или графина, пренебрегая употреблением стакана; но он был истинно добр, а потому удовольствовался только тем, что при докладе как-то очень энергично и цинично на немецком диалекте ругнул Грошопфа, употребив при этом русскую поговорку о том, что Грошопф во французской орфографии столько же толку смыслит, сколько свинья в апельсинах. При этом он прибавил, что сам он, Егор Францевич, и французскую орфографию превосходно знает, и один во всей России способен поспорить в этом случае с таким знатоком, как граф Карл Васильевич. Это была странная и забавная сторона Канкрина: не было никакого предмета, в котором он не почитал бы себя непогрешимым, преимущественно по теории, так что он именно по теории считал себя великим мастером даже в берейторском искусстве, недостаток практики которого он довольно комично проявлял, когда медики посоветовали ему непременно ежедневно проезжать версты две-три верхом маленькою рысцою или самым укороченным галопом и император Николай I прислал ему одну из превосходно выезженных верховых лошадей придворной конюшни, почему граф Егор Францевич в своей высокой треуголке с белым султаном, в камлотовом зеленом сюртуке, с огромными очками на носу, стал ездить по Летнему саду и по Каменноостровскому проспекту ежедневно поутру и ввечеру. Не умей придворная лошадь, ученица одного из знаменитейших берейторов того времени, ходить осторожно и правильно без всякого даже управления собою, русскому министру дорого бы обошелся этот гигиенический совет.

Журналист и прозаик Владимир Петрович Бурнашев (1810-1888) пользовался в начале 1870-х годов широкой читательской популярностью. В своих мемуарах он рисовал живые картины бытовой, военной и литературной жизни второй четверти XIX века. Его воспоминания охватывают широкий круг людей – известных государственных и военных деятелей (М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, А. П. Ермолов, В. Г. Бибиков, С. М. Каменский и др.), писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, А. С. Грибоедов и др.), также малоизвестных литераторов и журналистов.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.
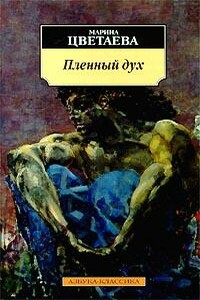
Проза поэта о поэтах... Двойная субъективность, дающая тем не менее максимальное приближение к истинному положению вещей.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
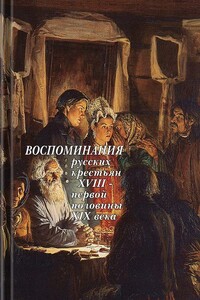
Сборник содержит воспоминания крестьян-мемуаристов конца XVIII — первой половины XIX века, позволяющие увидеть русскую жизнь того времени под необычным углом зрения и понять, о чем думали и к чему стремились представители наиболее многочисленного и наименее известного сословия русского общества. Это первая попытка собрать под одной обложкой воспоминания крестьян, причем часть мемуаров вообще печатается впервые, а остальные (за исключением двух) никогда не переиздавались.

Внук известного историка С. М. Соловьева, племянник не менее известного философа Вл. С. Соловьева, друг Андрея Белого и Александра Блока, Сергей Михайлович Соловьев (1885— 1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем. Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти.