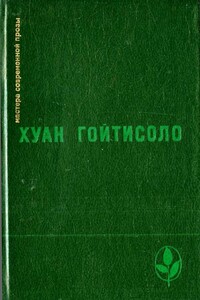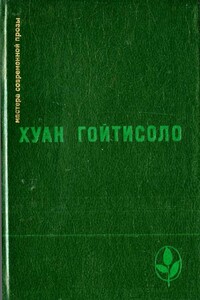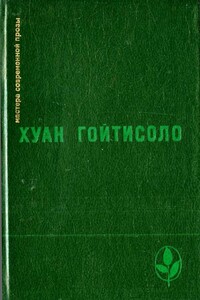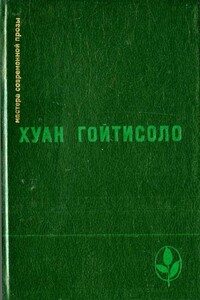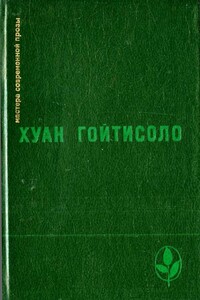и Америко Кастро, потрясенный, открываешь для себя Бланко Уайта, начинаешь переводить его, испытывая странное, необъяснимое ощущение, что переводишь собственный текст. Существовал ли Бланко Уайт на самом деле, или это одно из твоих воплощений в иной, прошлой жизни? Ты продолжаешь его путь, его борьбу, потому что порядок, которому Бланко Уайт бросил вызов, продолжает жить в сегодняшней Испании. Для вас обоих изгнанничество стало не карой, а благословением. Привыкнув к тяготам судьбы, послушный ветрам, ты стремишься к перемене мест и впечатлений — чудесные дни в Магрибе, поездки в Сахару, паломничество в Стамбул, завораживающее путешествие вниз по реке к угрюмым святыням нубийцев. Ты без труда входишь в новую, интересную роль — профессора-иностранца, приобщаешься к университетской жизни, вливаешься в стремительный круговорот Нью-Йорка. Ты проживешь одиннадцать лет в Париже, Манхэттене и Танжере, не зная, что такое ностальгия.
И все же это была иллюзия, самообман, который не выдержал проверки временем.
В сентябре семьдесят пятого года ты прилетел в Штаты читать курс лекций в Питтсбурге и там узнал о процессе, приговоре и казни баскских сепаратистов. Появившийся на экранах телевизоров дряхлый диктатор, произносящий нелепую речь, напомнил тебе драму Инес де Кастро[9] — старый фильм, увиденный в детстве; труп, облаченный в королевские одежды, торжественно восседающий на троне, придворные пали ниц, завороженные этим вечным символом власти, которая и после смерти подчиняет себе людей. Этот образ неожиданно вызвал в тебе отвращение, желание запереть всех героев драмы в пыльном книжном шкафу, навеки похоронить их там. Ты осознал тогда, что безразличие к родине было обманом, что официальная Испания Франко навсегда поселила в твоей душе чувство стыда. Оказавшись пленником железобетонных джунглей Голден-Трайэнгл, ты несколько недель не отходил от телевизора, напряженно следил за ходом событий, приходя в ярость от собственного бессилия, удивляясь тому, что происходящее на родине так волнует тебя. Моника сообщила по телефону о его смерти, но новость сразу же опровергли газеты. Однако с той самой минуты, до того, как он действительно умер, память настойчиво возвращала тебя в далекое детство, в юность, в Испанию, казалось, ты присутствуешь при страшной агонии настоящего главы твоей семьи. Внезапная уверенность в том, что ты наконец осиротел, что тень, витавшая над тобой со времен опустошительных бурь гражданской войны, исчезла, вызывала настойчивое желание писать, объяснить твои отношения с человеком, роль которого в своей судьбе ты недооценивал. Вечером двадцатого ноября ты вчерне закончил статью, а через несколько дней прочитал ее в библиотеке Конгресса в Вашингтоне, по-своему отомстив этому малопочтенному общественному институту, столько сделавшему для того, чтоб он много лет продержался у власти. Эта статья, где не упоминалось прямо его имя (In memoriam F. F. B.), пронизанная мыслью о том, что ненавистный тебе человек во многом определил твою судьбу, явилась первым, неосознанным шагом на опасном пути автобиографии.