Вооружение и военное дело кочевников Южного Урала в VI-II вв. до нашей эры - [3]
Прежде всего, это касается бронзовых наконечников стрел. Необходимо сказать, что хронология некоторых типов наконечников не может быть признана бесспорной, что уже отмечалось в литературе [Пшеничнюк, 1983. С.76-86].
Датировку колчанных наборов с ведущими сериями наконечников, по той же классификации, можно устанавливать в рамках нескольких столетий. Парадоксальными являются факты, когда в закрытых комплексах взаимовстречаются акинаки VI-V вв. до н.э. и наконечники стрел IV-III вв. до н.э. Очень трудно провести видимую грань между стрелами V и IV вв. до н.э. или IV-III вв. до н.э. Если для VI в. до н.э. эти различия еще бросаются в глаза такими чертами, как массивность и сводчатость, то с V в. до н.э. они нивелируются.
Вместе с тем К.Ф.Смирнов совершенно справедливо определил бронебойное назначение трехгранных стрел, подчеркнул общую тенденцию развития наконечников, выявил различие южноуральских и поволжских типов, а также охарактеризовал наиболее диагностирующие в хронологическом отношении экземпляры, особенно ранние.
Однако в то же время эта типология представляется нам чересчур громоздкой, а сам морфологический принцип выделения типа не всегда может быть объективным. Особенно смущает наличие большого количества типов внутри каждого отдела. Незначительные различия между наконечниками едва ли имели принципиальное "боевое" значение, и каждый новый "тип" в древности рождался путем постепенной заточки граней наконечника, с которого впоследствии как с образца изготовлялась литейная форма. Результатом такой эволюции явились поздние бронзовые наконечники с узкой, треугольной, "заточенной" головкой.
Очевидно, такого же характера замечания можно высказать и по отношению к клинковому оружию.
К.Ф.Смирнов, как последовательный сторонник автохтонной концепции развития культуры кочевников Южного Урала, стремился проследить эволюцию мечей и кинжалов от предскифского до раннескифского и скифского периодов применительно к рассматриваемому региону. Не случайно он воспользовался типологическим принципом, который приняла А.И.Мелюкова для скифских мечей и кинжалов. Однако эта типология, работающая в условиях Причерноморья и Кавказа, позволяющая зафиксировать непрерывную линию развития клинков от карасукско-киммерийского типа до ранних акинаков, как оказалось, не соответствует конкретным историческим условиям степной зоны Южного Урала. Интенсивные полевые исследования, проводившиеся на территории уральских степей, не выявили переходных от эпохи бронзы к железу типов, за исключением крайне редких случайных находок. В хронологическом отношении мечи и кинжалы типа акинаков, характерные для кочевников рассматриваемого региона, независимо от форм рукояти могут быть датированы в рамках VI-IV вв. до н.э. Более четкую датировку, специфическую для конкретного типа, за редким исключением в настоящее время определить едва ли возможно.
Однако К.Ф.Смирнов выделил типы раннепрохоровских мечей, коснулся проблемы "длинного меча", может быть слегка ее преувеличивая. Чрезвычайно ценным и заманчивым, на наш взгляд, является предположение К.Ф.Смирнова о том, что истоки формирования раннескифского меча-акинака следует искать в каком-то одном центре.
Не менее важными оказались замечания К.Ф.Смирнова относительно военного дела кочевников региона. Так, автор, считая, что "различные виды оружия в могилах савроматских воинов отражают реальный комплекс савроматского вооружения", пришел к выводу о резком увеличении числа лучников в савроматском войске с конца VI в. до н.э. Однако все же следует признать, что именно военному делу кочевников, структуре войска, военной тактике и возможным их противникам К.Ф.Смирнов уделял недостаточное внимание, несмотря на то, что он еще раз вернулся к этому вопросу в 1964 г. [Смирнов, 1964. С.212-213].
Следом за книгой К.Ф.Смирнова в 1962 г. была опубликована статья М.Г.Мошковой "О раннесарматских втульчатых стрелах", где она, в сущности, продолжает типологию К.Ф.Смирнова. Как и в предыдущем случае, датировка некоторых типов не может быть признана убедительной. Так, например, тип VIA у М.Г.Мошковой (№№ 2-4), датируемый ею IV в. до н.э., вполне соответствуют типу VIA по классификации К.Ф.Смирнова, но может быть отнесен как к VI, так и V вв. до н.э. То же самое можно сказать и о других типах (например, тип XII). Все это свидетельствует о том, что только одни стрелы не могут служить надежным репером для датировки. Однако М.Г.Мошкова вполне справедливо выделила типы, характерные для позднепрохоровского времени (например, тип XIII), определила тенденцию развития бронзовых и железных наконечников стрел и еще раз подчеркнула характер различий этого вида оружия для Волго-Донского и Приуральского вариантов прохоровской культуры [Мошкова, 1962а].
В 1963 г. вышла в свет известная работа М.Г.Мошковой, в которой был собран и обобщен весь известный к тому времени материал по кочевникам IV-II вв. до н.э. Среди категорий погребального инвентаря значительное место уделено и оружию [Мошкова, 1963]. Полагая, что цель "Свода" заключается не в глубоком изучении рассматриваемой проблемы, М.Г.Мошкова в целом дала суммарную характеристику известного ей оружия, предложив типологию прохоровских мечей и кинжалов. Определяющие признаки основных типов клинкового оружия автором выделены, на наш взгляд, совершенно справедливо, и предметом критики может быть только объединение в один тип мечей с серповидным и прямым навершиями. Создается впечатление, что последние в морфологическом плане есть нечто иное, да и бытуют они все-таки несколько раньше,
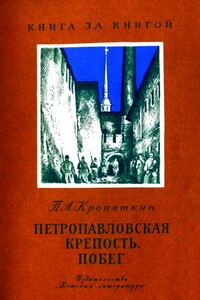
«Петропавловская крепость. Побег» — глава из книги «Записки революционера» Петра Алексеевича Кропоткина, замечательного революционера, известного учёного географа, путешественника.

Генерал А. И. Деникин. Кто спас советскую власть от гибели. Перевод парижского издания 1937 года в современную орфографию. Флибуста. 2018.

Впервые после 1903 г. переиздаётся труд военного историка С. А. Зыбина (9 октября 1864, Москва – 30 июня 1942, Казань). В книге нашли отражение как путевые впечатления от деловой поездки в промышленный центр Бельгии, так и горькие размышления о прошлом и будущем Тулы – города, который мог бы походить на Льеж, если бы сам того пожелал… Как приложение приводится полный текст интерпретации образа тульского косого левши, отождествлённого Зыбиным с мастером А. Сурниным.

В этой книге последовательно излагается история Китая с древнейших времен до наших дней. Автор рассказывает о правлении императорских династий, войнах, составлении летописей, возникновении иероглифов, общественном устройстве этой великой и загадочной страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.

О строительстве, становлении и печальной участи Оренбургского Успенского женского монастыря рассказывает эта книга, адресованная тем, кто интересуется историей родного края и русского женского православия.

Книга была дважды издана на русском языке, переведена на английский, отдельные главы появились на многих европейских языках. Книга высоко оценена рецензентами в мировой литературе как наиболее полное описание истории вмешательства коммунистической партии в развитие науки, которое открыло простор для процветания шарлатанов и проходимцев и привело к запрещению многих приоритетных направлении российской науки. Обширные архивные находки позволили автору коренным образом переработать книгу для настоящего издания, включив в нее новые данные и концессии.