Воображаемый собеседник - [5]
Было ли это профессией, новой для пятидесятилетнего человека? Да, но не только профессией и далеко не новой: призванием, долгом, единственной разумной возможностью существования… «О, несчастье неразделенной любви. Я хотел уйти от тебя, искусство, и ты, казалось, отпускало меня. Как женщина, взамен любви ты предлагало мне необязательную дружбу. Не желая, я отдал тебе жизнь и не могу получить ее обратно…» (Из записных книжек.)
В жизни Савича было три полосы счастья — «Воображаемый собеседник», защита Испании и переводы. Возможна ли третья без первых двух? Нет. Все пригодилось для того, чтобы перевести Габриелу Мистраль, Неруду, Гильена так, как он их перевел. Пригодились его собственные стихи, которые он писал всю жизнь. Пригодились книги, с которыми он никогда не расставался. Пригодилась скитальческая жизнь. Пригодилась Испания, в которую он навсегда, безоглядно влюбился. И уж конечно пригодилась небоязнь ответственности и беспощадность к себе. Он сам написал об этом:
«…Помни, ты не фотограф, а человекоописатель, твой закон — не факт, а правдоподобие, не статистика, а типичность, не правда, а истина. Ангел литературы похож на Азраила, он испепеляет. Если вечно искать сирень с небывалым количеством лепестков, то будет казаться, что меньше четырех не бывает… что пять — совсем немного и т. д., — такая должна быть требовательность, и в том числе — к слову… Вскакивай ночью и записывай, раз в месяц запишешь нужное…» (Из записных книжек.)
Все, что принято говорить о первоклассных переводчиках — способность к перевоплощению, естественность языка, отсутствие стилизации, умение сделать чужестранное произведение фактом русской литературы, — было сказано о Савиче, и не раз. Добавлю лишь, что он относился к самому языку как к искусству. Для него язык — не бесчисленный ряд смысловых слагаемых, а поэтическое устройство. Тонкостями этого устройства он пользовался бережно и неутомимо. Он умел не показывать себя, как бы «смириться» перед подлинником, но смириться, не теряя достоинства. Подчас он чувствовал, что в силах и потягаться с подлинником. В одном стихотворении Гильена нищий нарисован «с краюшкой хлеба и бутылкой вина за спиной». В глазах русского читателя бутылка вина мешала образу нищего, выглядела более подлинной, чем этого требовала поэзия. Упорно работая, Савич добился истинной близости к подлиннику:
Каждой новой работе неизменно предшествовало глубокое изучение жизни и творчества переводимого поэта. Предисловия, которые Савич писал к произведениям Мистраль, Манрике, Эрнандеса, Неруды, ко многим другим, — это дельные, содержательные, написанные с блеском эссе. Они нужны, даже необходимы, — ведь еще недавно советский читатель мало знал об испанской и латиноамериканской литературе! Но я представил себе, что этих предисловий — нет. Я как бы закрыл рукой подпись под портретом — и что же? Психологическая галерея переведенных Савичем поэтов все равно возникает передо мной. Они поразительно непохожи — и не только потому, что Хорхе Манрике жил в XV веке и был сыном магистра ордена Сант-Яго, а пастух Хосе Эрнандес был комиссаром Пятого полка в революционной Испании. Савич разглядел и сумел передать в своих переводах не только их поэзию, но самую жизнь. Биография художника — его холсты, это верно и для литературы. Годами переводя Шекспира, Пастернак по спискам, повторениям, по самому словарю не только доказал подлинность его авторства, но нарисовал реальный убедительный портрет.
Хочется сказать еще об одном: об атмосфере работы. Когда вскоре после конца войны Савичу предложили переводить Габриелу Мистраль и он отказался — его замучили страшные угрызения совести… «Совесть одолела меня. И тут… начинается трудный рассказ о том, как забилось для меня сердце великой женщины, живое, истекающее кровью от огромной, почти немыслимой любви. Как ее глаза стали моими и я увидел долину Эльки, где каждая девушка уверена, что она станет королевой».
Это выглядит парадоксальным, но переводы Савича хороши не только потому, что он всю жизнь писал стихи и прозу, тщательно готовился к работе и был человеком редкого благородства. Он переводил хорошо потому, что ему было стыдно переводить плохо. Стыдно перед Испанией, стыдно перед самим собой, перед русской литературой.
Совесть, острота ответственности, сказавшаяся в суровом отборе поэтов, отдельных стихотворений, каждого слова, — вот характерная для Савича рабочая атмосфера. «Он (переводчик) вынужден защищать не только свой труд, но и самое право на него… Он неизбежно должен говорить и от лица переводимого поэта, не объясняя, не хваля и не порицая… как будто он сам написал то, что он перевел. Соперничество превращается в непрерывный союз, за который отвечает, разумеется, лишь одна сторона — переводчик» («Горе и награда переводчика»).
Теперь, когда я снова прочел его книги, когда я мысленно снова встретился с ним в рассказах и письмах его друзей, я горько пожалел о том, что за долгие годы знакомства не вгляделся в него, не оценил его душевной щедрости, его благородства.
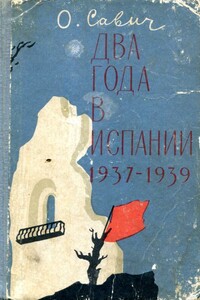
Писатель О. Савич — непосредственный свидетель борьбы республиканской Испании с фашистским мятежом Франко. В течение двух лет О. Савич находился в Испании в качестве корреспондента ТАСС, газет «Известия» и «Комсомольская правда». Автору книги приходилось бывать в самой гуще событий, знакомиться с представителями республиканского правительства, встречаться с выдающимися деятелями венгерской, болгарской, польской коммунистических партий. В книге «Два года в Испании» собраны рассказы о примечательных людях — героях событий и своеобразные очерки — зарисовки запомнившихся автору отдельных эпизодов.
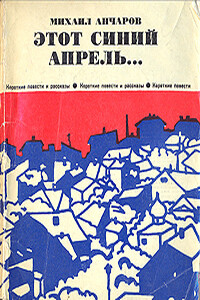
Повесть «Этот синий апрель…» — третье прозаическое произведение М. Анчарова.Главный герой повести Гошка Панфилов, поэт, демобилизованный офицер, в ночь перед парадом в честь 20-летия победы над фашистской Германией вспоминает свои встречи с людьми. На передний план, оттеснив всех остальных, выходят пять человек, которые поразили его воображение, потому что в сложных жизненных ситуациях сумели сохранить высокий героизм и независимость. Их жизнь — утверждение высокой человеческой нормы, провозглашенной революцией.
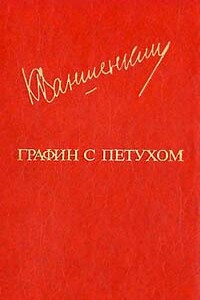
Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.
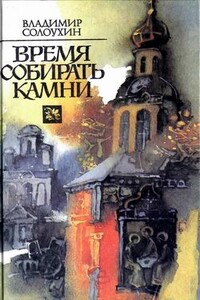
В книгу Владимира Алексеевича Солоухина вошли художественные произведения, прошедшие проверку временем и читательским вниманием, такие, как «Письма из Русского Музея», «Черные доски», «Время собирать камни», «Продолжение времени».В них писатель рассказывает о непреходящей ценности и красоте памятников архитектуры, древнерусской живописи и необходимости бережного отношения к ним.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
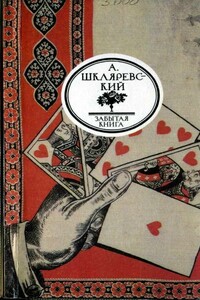
Русский дореволюционный детектив («уголовный роман» — в языке того времени) совершенно неизвестен современному читателю. Данная книга, призванная в какой-то степени восполнить этот пробел, включает романы и повести Александра Алексеевича Шкляревского (1837–1883), который, скорее чем кто-либо другой, может быть назван «отцом русского детектива» и был необычайно популярен в 1870-1880-х годах.
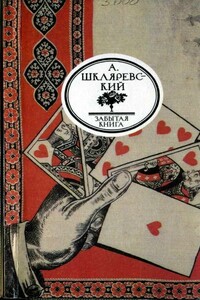
Русский дореволюционный детектив («уголовный роман» — в языке того времени) совершенно неизвестен современному читателю. Данная книга, призванная в какой-то степени восполнить этот пробел, включает романы и повести Александра Алексеевича Шкляревского (1837–1883), который, скорее чем кто-либо другой, может быть назван «отцом русского детектива» и был необычайно популярен в 1870-1880-х годах.
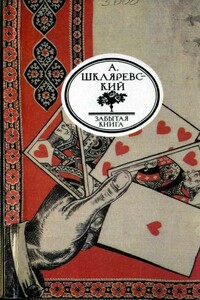
Русский дореволюционный детектив («уголовный роман» — в языке того времени) совершенно неизвестен современному читателю. Данная книга, призванная в какой-то степени восполнить этот пробел, включает романы и повести Александра Алексеевича Шкляревского (1837–1883), который, скорее чем кто-либо другой, может быть назван «отцом русского детектива» и был необычайно популярен в 1870-1880-х годах.
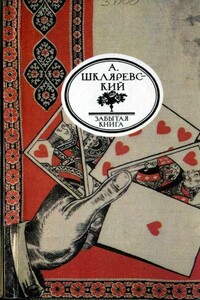
Русский дореволюционный детектив («уголовный роман» — в языке того времени) совершенно неизвестен современному читателю. Данная книга, призванная в какой-то степени восполнить этот пробел, включает романы и повести Александра Алексеевича Шкляревского (1837–1883), который, скорее чем кто-либо другой, может быть назван «отцом русского детектива» и был необычайно популярен в 1870-1880-х годах. Представленные в приложении воспоминания самого Шкляревского и его современников воссоздают колоритный образ этого своеобразного литератора.