Волчьи ночи - [42]
Всё-таки Ага открыла ставни и окно над дверью.
— Что нужно? — прорычала она ему, как молодая собака, захлёбывающаяся лаем у двери.
— Я хотел бы чего-нибудь выпить и…
— Закрыто! — рявкнула она и захлопнула ставни и сразу за этим окно так, что зазвенели стёкла. Он остолбенел от неожиданности. Без сил. Это было так, как будто он только что увидел ведьму — жирную и со странными глазами, одним махом беспощадно уничтожившую все его надежды. И в то же время его, как молния, поразило острое чувство, что чем-то — бог знает, чем и почему — Ага напомнила ему Эмиму. Это ощущение было таким ясным, таким сильным, что он просто оцепенел и не мог ничего возразить, ничего не мог понять, и вообще не был способен думать ни о чём, кроме как о том, что, вероятно, сошёл с ума и в ближайшее время, возможно, очень скоро свихнётся окончательно, если не сможет встретиться с Куколкой. Однако же всё прочее было таким, как он видел, как ощущал: дверь и задвижка, и снег на балясинах перил, вывеска «У Аги», осыпавшаяся возле дверного косяка штукатурка, туман, и дома вокруг, закрытые ставни. Ни в чём из того, что он видел, не было ничего необычного. Он также мог совершенно остро, совершенно ясно смотреть и видеть, что всё вокруг было совершенно нормальным, и не удваивалось, и ниоткуда ничего не торчало. Он точно знал, кто он, как и почему здесь оказался, и точно знал, что любой ценой хочет и должен увидеть Куколку, даже если, войдя в дверь, он разнесёт в пух и прах всё, что попадёт под руку, — и тогда старуха узнает, кто такой Рафаэль Меден… и как надо к нему относиться.
Но дверь открылась ещё до того, как он всерьёз за неё взялся.
В дверях стояла Куколка.
Она выглядела немного испуганной, немного суровой.
И долго молчала. Он тоже молчал. Она накинула на себя только халат — белый в синий горошек. И надела домашние туфли на босу ногу. Он почувствовал, что его лицо как-то смягчается от глупой улыбки, в своём роде смирения и просьбы, бесконечно тупого смущения, с которым он ничего не мог поделать.
— Я только хотел бы… — сконфуженно начал он, — я изображал святого Николая, и теперь мне нужно переодеться в другую одежду. Вместо этой…
Глупо и совсем беспомощно он вытянул перед собой измятое облачение. Почему-то он был не в силах посмотреть ей в глаза, в которых, вероятно, читалось осуждение его дурацкой проблемы, а также презрение и жалость. Напрасно он к ней пришёл. Он чувствовал себя убогим и униженным. И ему было больно оттого, что она не хотела забрать тряпки, которые он так и держал в вытянутых руках, как последний идиот.
— Входи, Рафаэль, — сказала она наконец. Голос её звучал серьёзно, предостерегающе и холодно — возможно, даже слегка обиженно; во всяком случае, в нём не было ни тени того понимания и нежного тепла, о которых он мечтал, пока шёл сюда. Она позволила ему войти и снова заперла дверь.
В трактире было темно и мрачно. Пахло кислятиной — жганьем, хмелем, людьми, которые, очевидно, только что ушли. Печь была ещё тёплой.
— Итак, ты говоришь, что шёл на праздник святого Николая, — сказала она со вздохом и уселась на стул возле одного из неприбранных столов.
— Да… только, так сказать… — попытался он выкрутиться, устало и обессиленно опускаясь на лавку у печки. — Но я хотел, думал, что…
— Но дошёл ты только до Грефлинки, — с укором отрезала она, быстро встала и потянулась через стойку к полке за бутылкой жганья и стаканом.
— Знаешь, ты такая… Я не знаю. Я много о тебе думал, — он попытался уклониться от разговора о Грефлинке.
Она молча наполнила стакан и протянула ему. И после того, как он смущённо пробормотал слова благодарности, поставила почти полную бутылку на лавку рядом с ним.
— Ты такая… Я не знаю, как нужно говорить… Ты другая, — снова задумчиво начал он, держа стакан жганья трясущейся рукой. — Тебя нельзя не любить.
Она только вздохнула, как будто всё это было ей прежде всего неприятно и как будто она устала и не может дождаться, чтобы он ушел. Конечно, она могла бы попросту указать ему на дверь… конечно, она дала ему целую бутылку жганья… но всё это выглядело как готовность услужить посетителю и не более того. Однако он всё же решился ей сказать:
— Знаешь… что-то со мной произошло. Собственно говоря, я здесь, чтобы тебе рассказать. Я не знаю, кому ещё…
— Ну, может, Грефлинке, — снова закончила она с ядовитым упрёком.
— Понимаешь, на самом деле Грефлинка меня нашла и спасла… И больше ничего не было, — солгал он.
— Значит, с тобой, говорю тебе, всё куда хуже, чем ты думаешь, — и она выпрямилась, как будто решила закончить разговор.
— Видишь, я боялся… — несмотря на это, продолжал он, — что профессор и Эмима вчера замёрзли в лесу.
— Да брось ты! — она скорчила злую гримасу, однако не встала с места, как намеревалась.
— Я и сам чуть не замёрз, — настаивал он. — Мы сбились с пути. И потерялись где-то среди зарослей вербы. Не знаю… Был туман, и темно… Я думаю, они остались там. Я был не в силах… Эта Грефлинка меня нашла. Я так и не знаю, где и как. Мне это непонятно. Я не помню себя…
— Они не замёрзли, Рафаэль, — она покачала головой, как будто сожалея, что это не так. — Такое не замерзает.

Рассказанные истории, как и способы их воплощения, непохожи. Деклева реализует свой замысел через феномен Другого, моделируя внутренний мир умственно неполноценного подростка, сам факт существования которого — вызов для бритоголового отморозка; Жабот — в мистическом духе преданий своей малой родины, Прекмурья; Блатник — с помощью хроники ежедневных событий и обыденных хлопот; Кумердей — с нескрываемой иронией, оттеняющей фантастичность представленной ситуации. Каждый из авторов предлагает читателю свой вариант осмысления и переживания реальности, но при этом все они предпочли «большим» темам камерные сюжеты, обращенные к конкретному личностному опыту.
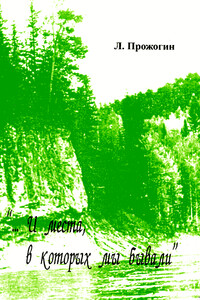
Книга воспоминаний геолога Л. Г. Прожогина рассказывает о полной романтики и приключений работе геологов-поисковиков в сибирской тайге.

Впервые на русском – последний роман всемирно знаменитого «исследователя психологии души, певца человеческого отчуждения» («Вечерняя Москва»), «высшее достижение всей жизни и творчества японского мастера» («Бостон глоуб»). Однажды утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона (японский белый редис). Доктор посылает его лечиться на курорт Долина ада, славящийся горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой больничной койке, словно выкатившейся с конверта пинк-флойдовского альбома «A Momentary Lapse of Reason»…
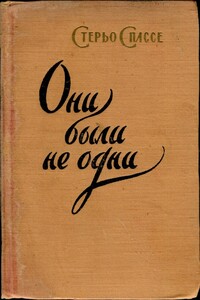
Без аннотации.В романе «Они были не одни» разоблачается антинародная политика помещиков в 30-е гг., показано пробуждение революционного сознания албанского крестьянства под влиянием коммунистической партии. В этом произведении заметно влияние Л. Н. Толстого, М. Горького.

Немецкий офицер, хладнокровный дознаватель Гестапо, манипулирующий людьми и умело дрессирующий овчарок, к моменту поражения Германии в войне решает скрыться от преследования под чужим именем и под чужой историей. Чтобы ничем себя не выдать, загоняет свой прежний опыт в самые дальние уголки памяти. И когда его душа после смерти была подвергнута переформатированию наподобие жёсткого диска – для повторного использования, – уцелевшая память досталась новому эмбриону.Эта душа, полная нечеловеческого знания о мире и людях, оказывается в заточении – сперва в утробе новой матери, потом в теле беспомощного младенца, и так до двенадцатилетнего возраста, когда Ионас (тот самый библейский Иона из чрева кита) убегает со своей овчаркой из родительского дома на поиск той стёртой послевоенной истории, той тайной биографии простого Андерсена, который оказался далеко не прост.Шарль Левински (род.

Линн Рид Бэнкс родилась в Лондоне, но в начале второй мировой войны была эвакуирована в прерии Канады. Там, в возрасте восемнадцати лет, она написала рассказ «Доверие», в котором она рассказывает о своей первой любви. Вернувшись в Англию, она поступила в Королевскую академию драматического искусства и недолгое время играла на сцене. Потом она стала одной из первых женщин-репортеров отдела последних известий независимого телевидения.Ее первый роман «Комната формы L» сразу стал бестселлером, который впоследствии стал и очень удачным фильмом.

«Отныне Гернси увековечен в монументальном портрете, который, безусловно, станет классическим памятником острова». Слова эти принадлежат известному английскому прозаику Джону Фаулсу и взяты из его предисловия к книге Д. Эдвардса «Эбинизер Лe Паж», первому и единственному роману, написанному гернсийцем об острове Гернси. Среди всех островов, расположенных в проливе Ла-Манш, Гернси — второй по величине. Книга о Гернси была издана в 1981 году, спустя пять лет после смерти её автора Джералда Эдвардса, который родился и вырос на острове.Годы детства и юности послужили для Д.

Этот роман — о жизни одной словенской семьи на окраине Италии. Балерина — «божий человек» — от рождения неспособна заботиться о себе, ее мир ограничен кухней, где собираются родственники. Через личные ощущения героини и рассказы окружающих передана атмосфера XX века: начиная с межвоенного периода и вплоть до первых шагов в покорении космоса. Но все это лишь бледный фон для глубоких, истинно человеческих чувств — мечта, страх, любовь, боль и радость за ближнего.
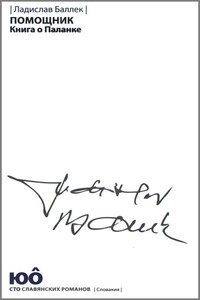
События книги происходят в маленьком городке Паланк в южной Словакии, который приходит в себя после ужасов Второй мировой войны. В Паланке начинает бурлить жизнь, исполненная силы, вкусов, красок и страсти. В такую атмосферу попадает мясник из северной Словакии Штефан Речан, который приезжает в город с женой и дочерью в надежде начать новую жизнь. Сначала Паланк кажется ему землей обетованной, однако вскоре этот честный и скромный человек с прочными моральными принципами осознает, что это место не для него…
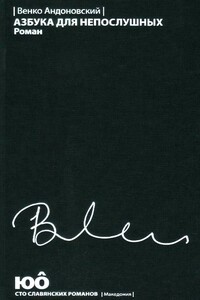
«…послушные согласны и с правдой, но в равной степени и с ложью, ибо первая не дороже им, чем вторая; они равнодушны, потому что им в послушании все едино — и добро, и зло, они не могут выбрать путь, по которому им хочется идти, они идут по дороге, которая им указана!» Потаенный пафос романа В. Андоновского — в отстаивании «непослушания», в котором — тайна творчества и движения вперед. Божественная и бунтарски-еретическая одновременно.
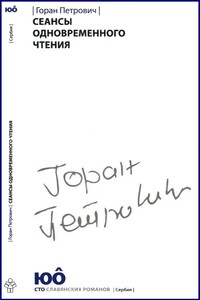
Это книга — о любви. Не столько профессиональной любви к букве (букве закона, языковому знаку) или факту (бытописания, культуры, истории), как это может показаться при беглом чтении; но Любви, выраженной в Слове — том самом Слове, что было в начале…