Волчьи ночи - [41]
— С меня хватит, — затаился он, как будто бы и в самом деле так решил, и пытался нащупать бутылку, стоявшую где-то возле постели. Похоже, она поверила ему, когда он изобразил полное равнодушие к ней и интерес к куда-то запропастившейся бутылке — а может, и не поверила… но после того, как он порывисто схватил её за талию, перестала сопротивляться.
Только тяжело дышала и стонала, когда он решительно нагнул её перед собой… и время от времени, когда он толчками победно вторгался в неё, разгорячённую и мягкую, ему казалось, что стонет не только она, но и лежащий в кухне старик.
Может, так оно и было, а может, нет…
Ранним утром, когда он уходил, когда в сенях она, всё такая же лёгкая и горячая, прижалась к нему и шепнула, что она принадлежит только ему, что теперь она не сможет без него и пусть он обязательно придёт вечером. Ему казалось, что старик в кухне плачет. И что он плакал всё это время… Быстро, ничего не обещая, он попрощался и в пальто, которое она ему одолжила, с помятым епископским облачением под мышкой заспешил в морозный туман.
XI
Вороны сидели на ветках. В великоватом пальто из мягкого (скорее всего, заячьего) меха с высоким воротником было тепло и уютно. Протоптанная в снегу тропа вела в долину.
На холмах и в низинах всё ещё лежал туман, поэтому на сей раз Рафаэль твёрдо решил ни на шаг не сходить с тропы, даже несмотря на то, что она, по всей вероятности, вела в деревню, которую он, особенно этим утром, куда охотнее обошёл бы стороной. Однако подворье Грефлина так быстро скрылось в тумане и обзор так пугающе сузился, что ему не оставалось ничего другого, как идти по тропе, не сходя с неё ни на шаг, хотя это его здорово раздражало. Ему казалось, что туман между ближайшими ветками и воронами рассеивается и с каждой минутой становится всё светлее. Он подумал, что перед самой деревней нужно будет свернуть к церковному дому, потому что если сельчане увидят его, то представят всё то, что он проделывал ночью с женой больного. Очень возможно, что они в состоянии сделать выводы и его осудить… Он и сам осуждал и себя, и её. Его снова и снова точно обжигало огнём, когда он вспоминал хнычущий стон, доносившийся из кухни. И точно шип, застрявший в груди, кололо и поминутно отзывалось болью воспоминание, от которого и ему самому хотелось застонать. Да ещё этот запах шлюхи, въевшийся в его пиджак и остальную одежду, всё время напоминал о ней и о мучительной, отвратительной похоти, которая облепляла мысли, точно израсходованная, застоявшаяся слизь. Время от времени он сплёвывал, но это не помогало. Тогда он тёр снегом лицо. И всё ещё слегка саднившие руки. Лучше всего было бы раздеться и голым покататься по снегу, и в любом случае сделать это вдалеке от домов, и людей, и их взглядов, липких, как навозные мухи, — надо бежать от них и запереться в церковном доме. Но нет — нужно идти к людям, по крайней мере ради Михника и Эмимы. Может быть, они спаслись, а может быть… их отыщут только весной. Эта мысль отозвалась в нём болью, однако в ней было и что-то утешительное — казалось, что до весны было ещё далеко, за это время он, уж конечно, сумеет убедить легковерных людей, что эти двое просто-напросто уехали. На самом деле только Грефлинка знала, что он оставил Михника и Эмиму в болоте, однако ему казалось, что Грефлинку он легко сумеет убедить — и чем раньше, тем лучше, — раз уж они сами ничего не сделали для их спасения.
Декану он тоже решил как можно скорее дать знать об их исчезновении и пришёл к выводу, что на самом деле его никто ни в чём не сможет обвинить. Он мог без сомнений и колебаний рассказать всю правду о произошедшем. Или почти всю. Он умолчал бы только о Грефлинке и добавил бы, что вечером чувствовал себя слишком слабым и слишком замёрзшим, чтобы что-то предпринять.
И под такой версией, разумеется, и Грефлинка в своих интересах немедленно, без раздумий подписалась бы.
Из тумана перед ним выступили первые грушевые деревья и вскоре после этого — покосившиеся домишки Врбья. Собаки молчали. Было слишком поздно, подумал он, спускаясь вниз по улице, чтобы прятать где-то облачение епископа. Но в этом также не было больше никакой необходимости, потому что он решил правдиво рассказать обо всём, что было, и здесь, в деревне, и перед деканом, за исключением эпизода с Грефлинкой.
Между домами он никого не встретил.
Он притворялся, как будто имеет какие-то неотложные дела и у него нет ни времени, ни желания заглядывать в окна к случайным зевакам. Даже странное отсутствие собак во дворах, казалось, не заинтересовало его.
Трактир «У Аги» был закрыт.
Последние пьяницы, должно быть, только недавно вышли оттуда, и он надеялся, что Куколка, возможно, всё ещё там. Неожиданно для себя он возлагал на неё очень много надежд. Ему хотелось бы увидеть её, даже если только на одно мгновение, даже если в такой час это её рассердит.
Он долго стучал и звал, настойчиво и упрямо, потому что ему казалось, что один-единственный её взгляд, одно-единственное дружеское слово спасут его от тяжкого чувства стыда, который остался после Грефлинки и хнычущих стонов больного и к тому же предельно униженного старика на кухне. И насчет Эмимы и Михника он хотел сначала довериться именно ей. Она бы успокоила его, утешила… А он бы потом поведал ей о сходстве между Грефлинкой и Эмимой. И попытался бы снова её убедить, что ведьмы — всего лишь идиотское суеверие, возникшее в захолустной дыре…

Рассказанные истории, как и способы их воплощения, непохожи. Деклева реализует свой замысел через феномен Другого, моделируя внутренний мир умственно неполноценного подростка, сам факт существования которого — вызов для бритоголового отморозка; Жабот — в мистическом духе преданий своей малой родины, Прекмурья; Блатник — с помощью хроники ежедневных событий и обыденных хлопот; Кумердей — с нескрываемой иронией, оттеняющей фантастичность представленной ситуации. Каждый из авторов предлагает читателю свой вариант осмысления и переживания реальности, но при этом все они предпочли «большим» темам камерные сюжеты, обращенные к конкретному личностному опыту.

Эта повесть о дружбе и счастье, о юношеских мечтах и грезах, о верности и готовности прийти на помощь, если товарищ в беде. Автор ее — писатель Я. А. Ершов — уже знаком юным читателям по ранее вышедшим в издательстве «Московский рабочий» повестям «Ее называли Ласточкой» и «Найден на поле боя». Новая повесть посвящена московским подросткам, их становлению, выбору верных путей в жизни. Действие ее происходит в наши дни. Герои повести — учащиеся восьмых-девятых классов, учителя, рабочие московских предприятий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Июнь 1957 года. В одном из штатов американского Юга молодой чернокожий фермер Такер Калибан неожиданно для всех убивает свою лошадь, посыпает солью свои поля, сжигает дом и с женой и детьми устремляется на север страны. Его поступок становится причиной массового исхода всего чернокожего населения штата. Внезапно из-за одного человека рушится целый миропорядок.«Другой барабанщик», впервые изданный в 1962 году, спустя несколько десятилетий после публикации возвышается, как уникальный триумф сатиры и духа борьбы.
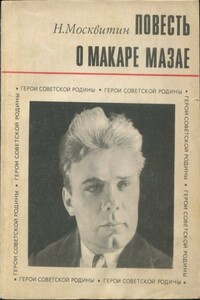
Макар Мазай прошел удивительный путь — от полуграмотного батрачонка до знаменитого на весь мир сталевара, героя, которым гордилась страна. Осенью 1941 года гитлеровцы оккупировали Мариуполь. Захватив сталевара в плен, фашисты обещали ему все: славу, власть, деньги. Он предпочел смерть измене Родине. О жизни и гибели коммуниста Мазая рассказывает эта повесть.

Леонид Переплётчик родился на Украине. Работал доцентом в одном из Новосибирских вузов. В США приехал в 1989 году. B Америке опубликовал книги "По обе стороны пролива" (On both sides of the Bering Strait) и "Река забвения" (River of Oblivion). Пишет очерки в газету "Вести" (Израиль). "Клуб имени Черчилля" — это рассказ о трагических событиях, происходивших в Архангельске во время Второй мировой войны. Опубликовано в журнале: Слово\Word 2006, 52.

Главный герой романов Иорама Чадунели — опытный следователь. В романе «Возмездие» он распутывает дело об убийстве талантливого ученого, который занимался поисками средства для лечения рака. Автор показывает преступный мир дельцов, лжеученых, готовых на все ради собственной выгоды и славы. Персонажи «Рождественского бала» — обитатели «бриллиантового дна» одного города — махинаторы, взяточники и их высокие покровители.

Этот роман — о жизни одной словенской семьи на окраине Италии. Балерина — «божий человек» — от рождения неспособна заботиться о себе, ее мир ограничен кухней, где собираются родственники. Через личные ощущения героини и рассказы окружающих передана атмосфера XX века: начиная с межвоенного периода и вплоть до первых шагов в покорении космоса. Но все это лишь бледный фон для глубоких, истинно человеческих чувств — мечта, страх, любовь, боль и радость за ближнего.
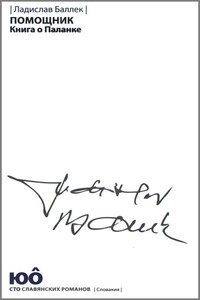
События книги происходят в маленьком городке Паланк в южной Словакии, который приходит в себя после ужасов Второй мировой войны. В Паланке начинает бурлить жизнь, исполненная силы, вкусов, красок и страсти. В такую атмосферу попадает мясник из северной Словакии Штефан Речан, который приезжает в город с женой и дочерью в надежде начать новую жизнь. Сначала Паланк кажется ему землей обетованной, однако вскоре этот честный и скромный человек с прочными моральными принципами осознает, что это место не для него…
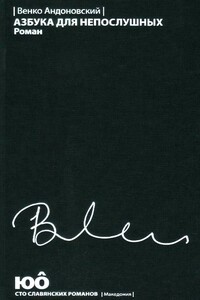
«…послушные согласны и с правдой, но в равной степени и с ложью, ибо первая не дороже им, чем вторая; они равнодушны, потому что им в послушании все едино — и добро, и зло, они не могут выбрать путь, по которому им хочется идти, они идут по дороге, которая им указана!» Потаенный пафос романа В. Андоновского — в отстаивании «непослушания», в котором — тайна творчества и движения вперед. Божественная и бунтарски-еретическая одновременно.
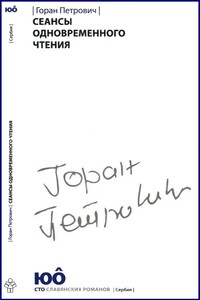
Это книга — о любви. Не столько профессиональной любви к букве (букве закона, языковому знаку) или факту (бытописания, культуры, истории), как это может показаться при беглом чтении; но Любви, выраженной в Слове — том самом Слове, что было в начале…