Во всей своей полынной горечи - [71]
«Скажу тебе так, — начал Прокоп, когда Толька приготовился записывать, — и ты заруби себе это на носу: дома мы грыземся между собой, пакостничаем… Но если случится такая беда, как война, тут уж шалишь: всю дурость, всю ерунду из головы вон! Это я тебе говорю промеж себя, чтоб знал: в роду Багниев, пусть там что хочешь говорят, а не было еще ни одного, который бы в штаны наложил, увиливал или ловчил. И дядька Яким, и Иван, и Тодор — никто как с поносом не бегал, не прятался. Встали и пошли. А на войне я видал всяких, из-за одной сволоты чуть в штрафную не угодил. Война — это, брат, не забава, не пирушка. Это такая штука… Сурьезная! На войне помни одно: убивай, не то тебя убьют. Не дай тебе бог изведать ее! Понимаешь, вроде бы тебя меж жернова вкинули — ломает тебя всего, мнет, давит, корежит, и ни туды и ни сюды. Иной, гляди, и выдюжит, а иной навек как контуженый останется! Ну, если и не совсем калека, так рубец на нем кровавый, незаживающий, на всю жизнь. Про все если рассказывать — и за неделю не кончишь. Всякое было… Ну, в бой пошли мы под Ельней, а до того в Черткове стояли. Станция такая: по одну сторону железной дороги Украина, а по другую — Россия. Прошел твой батько всю Украину, Киев брал, потом, значит, Румыния, Венгрия, Моравска Острава… Это уже в Чехословакии. В Берлине не был. Чего не было, того не было, врать не стану. А в Румынии мне, между прочим, пастух один собачку подарил. Лахмой звали. После контузии меня в трофейную команду определили, вот и возил я Лахму с собой. Маленькая, кудлатая, глаза в шерсть упрятаны… Я ее и домой вез, когда демобилизовали. Оставлю, бывало, на перроне возле вещей, а сам иду по надобностям. Прихожу, а возле нее уже толпа целая, а она сама, как звоночек, заливается, малая, а никого не допускает. Смех один!.. А команды только по-румынски и понимала. И надо же — дома уже потерял ее. На одной станции такая давка была — в вагоны по головам лезли. Ну я на мосток, что меж вагонами, кое-как вкинул чемодан и рюкзак. Чемодан тяжелющий, пуда четыре, должно… А тут свисток, отправление. Лахма на перроне была, под ногами вертелась, ну и кинулась на свисток: меня ей не видно, а к свистку она приучена была. И тут как раз поезд тронулся, на ходу еще цепляются, бегут… Я ее зову, кричу, свищу, а вещи уже не снять — все завалили, проход забили, на подножках висят… Самому бы соскочить, так чемодан, рюкзак с гостинцами… Так и осталась Лахма… До сих пор не могу простить себе, что верного друга на трофейное барахло променял! И то, правда, надо понять — уж очень спешил домой: четыре года ждал… Тютелька в тютельку. А то еще однажды было — вот уж и названия не помню… Но тоже в Румынии. Заняли мы городок какой-то, а на площади овчарка привязана к столбу. Чья — никто не знает. Хозяин то ли сбежал, то ли убили. Подхожу — толпа стоит. Гляжу — кобель с телка ростом, серый, по спине как ремень черный… Красавец! Не ест, говорят, не пьет и никого к себе не подпускает. «Как, — говорю, — не подпускает?» Ну и пошел прямо на нее. Подхожу, отвязываю, а она ничего. У ребят глаза на лоб… А она вроде даже ластиться стала, будто хозяина во мне признала. В таком деле что главное? Чтоб не дрогнул ты, чтоб собака твердость твою почуяла…»
«Что вы мне все про собак! — возмутился Толька. — Вы мне про эпизод какой-нибудь расскажите, про подвиг, чтоб я написать мог!»
«Какой там подвиг! Воевали, и все. Так и напиши. Напиши: сорок вторая стрелковая дивизия, восемьсот двенадцатый стрелковый полк, первый батальон, командиром у нас был Волошин Алексей Романович, капитан, геройский мужик, сам из Свердловска — на Урале город такой есть…»
Сочинение Толька все же написал, приклеил и пожелтевшую фронтовую фотографию, на которой изображен был батько в погонах старшины — молодой еще, грудь колесом, с хваткой улыбкой и с едва только наметившимися залысинами на лбу. Прокоп видел, что сын в те дни гордился им, и в душе объездчика будто тепло разлилось.
Когда Тольку провожали в армию, Прокоп закатил проводы на широкую ногу и сам целую неделю не просыхал. Будто знал, что с сыном ему больше не придется свидеться.
— Вот так у него всегда, — ворчал Янчук, — покрутит нос и выдаст такое, что в селе проходу не дадут! Ну какая я ему Гармошка?!
— Ладно, брось, — сказал Толька. — Штанов завалящих у тебя тут не найдется, чтоб сверху надеть? И потом, знаешь, я еще не обедамши…
— Обед сейчас организуем, передам домой, принесут. И штаны найдутся, и куфайка. Однако зачем же так — Гармошка?..
В назначенный час Толька наведался в правление, но Ковтуна не застал — того срочно вызвали в райком.
— Вечером зайдешь, а то лучше завтра с утра, — утешил Янчук. — Никуда он не денется.
С машиной провозились до позднего вечера. Обедали тут же, в гараже, пропахшем сквозняками и автолом, — распили бутылку самогонки, умяли добрую четвертину сала и миску вареников, подернутых остывшим крупчатым маслом. После того работа пошла спорее. Толька увлекся и пропустил момент, когда можно было повидать Веру во время вечерней дойки. Да и Янчук прямо-таки заговорил его своими бесконечными рассказами — точно фокусник, он тянул изо рта словесные ленты, которым не было конца. Кончалась одна, и тут же начиналась другая. Так что к исходу дня Толька уже и не слушал его, молча делал свое дело.

Рассказ о последних днях двух арестантов, приговорённых при царе к смертной казни — грабителя-убийцы и революционера-подпольщика.Журнал «Сибирские огни», №1, 1927 г.
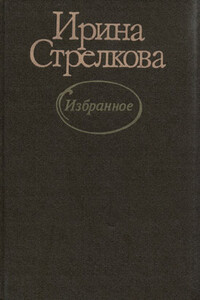
«— Священника привези, прошу! — громче и сердито сказал отец и закрыл глаза. — Поезжай, прошу. Моя последняя воля».

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
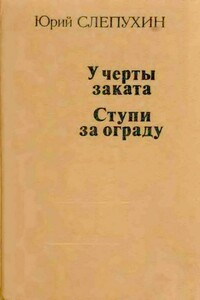
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.