Внутренний строй литературного произведения - [82]
О том, что происходит в заштатном Скотопригоньске, можно было бы сказать словами старца Зосимы: «Мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе» [XIV, 265]. Участники событий понимают это не вполне и не всегда, а лишь в особые высшие минуты. Эти минуты, высоко значимые объективно и к тому же словно выхваченные из общего потока лучом внезапного озарения, представляют «узлы поэзии», свойственные именно этому роману Достоевского. Их примета – смещение времени, указание на «вековечность» происходящего.
Иван, затеявший главный разговор с Алешей накануне намеченного на завтра отъезда, убежден: у них с братом «целая вечность времени, бессмертие» [XIV, 212]. Катерина Ивановна, предавшая Дмитрия ради любви к Ивану, при последнем свидании с осужденным твердит в исступлении: «…А все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня, знал ли ты это?» [XV, 188]. Нити, идущие от всех звездных миров, скрестились в душе Алеши, простершегося на земле после видения «Каны Галилейской». И речь свою у камня он произносит «отныне и вовеки веков».
Временная выделенность картины придает ей скульптурную объемность. Поклон старца Зосимы Дмитрию воздействует сильнее, чем сказанное слово. Он был бы театральным, если бы не полнейшая его искренность. В системе Достоевского такой жест равносилен поэтической метафоре. Обсуждение этого поклона – наглядный пример того, как, с точки зрения автора, следует или, вернее, не следует понимать язык образа.
Ракитин, например, объясняет Алеше, что старик попросту «уголовщину пронюхал». Жест Зосимы для него– нечто вроде шифра или, как сам он его называет, «эмблема», «аллегория» [XIV, 73]. Но, по Достоевскому, бытие в высших его моментах не аллегорично, – а поэтично. Зосима сказал жестом то, для чего на языке логики у него пока нет слов. Рассуждения Ракитина об этом поклоне как о «фокусе», проделанном нарочно, идеологически предваряют его же тираду о Пушкине – певце женских ножек. Невосприимчивость к поэзии являет, с точки зрения Достоевского, верный признак «лакейства мысли».
Момент, аналогичный поклону Зосимы, – только на несравненно более высоком уровне – поцелуй Христа в главе «Великий Инквизитор». Эта «бестолковая поэма бестолкового студента», как называет ее «автор» – Иван, – поэтический центр не только грандиозного романа, но и всего позднего творчества Достоевского. Перед лицом вечности поставлены здесь два главных его типа в их крайнем воплощении: Христос как выражение безграничного добра и Инквизитор, поднявшийся до последних высот демонического бунта и страдания. Первый ведет за собой поэзию древних преданий и средневековых мистерий. Второй – дух и даже стиль романтической поэмы. Большая часть рассказанного Иваном – монолог, исповедь одного лица, привычная форма лирической поэмы романтизма. Герой такой поэмы изначально прав, даже в преступлениях своих. Правота его санкционирована автором, в данном случае – Иваном, явно солидаризирующимся с Великим Инквизитором. Но здесь-то и совершается многозначное чудо поэзии. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того!» – кричит взволнованный слушатель Ивана – Алеша [XIV, 237]. «Хула» оборачивается «хвалой», потому что Великий Инквизитор, желая обличить Христа, обнажает то величественное великодушное, что лежит в основе его отношения к людям. Красота пересиливает то, что героем трактуется как польза. При этом логика Инквизитора во многом убедительна (особенно аргумент о спасении большинства), а страдания подлинные. Христу в романе дан достойный противник. Но логика побеждается безграничностью милосердия, а красноречие – молчанием[249]. Достоевский как бы реализует извечную мечту поэтов – дать душе «сказаться без слова». Христос в поэме молчит не из гордого протеста. Сильнее, чем слово, его облик – то неуловимое, в силу чего все, включая инквизитора, узнают его. Превыше всякого ответа и его поцелуй. Здесь – несказанное, беспредельная полнота высшего момента жизни.
Поэтическое наполнение характеров предполагает соответствующий ему фон. В преддверии поэмы Ивана он создается с помощью вереницы цитат из Шиллера, Тютчева, Полежаева, пушкинского «Каменного гостя». Но центральная реминисценция, скрыто питающая весь текст, автором не названа. Это – «Моцарт и Сальери». Вспомним, как Сальери, якобы руководимый заботой о музыке и музыкантах, доказывает бесполезность Моцарта:
Гений мешает Сальери как веха пути, невозможного для большинства. Так же мешает инквизитору Христос, показавший людям идеал, доступный немногим. Жестокость искренно доказывает свою правоту аргументами любви, требованием справедливости. Но и у Пушкина, и у Достоевского важнее смысла аргументов факт соотнесенности характеров: глубинное торжество того, кто в безграничной доброте не может и не хочет защищать себя.
Параллельность поэмы Ивана пушкинской трагедии, возможно, не была осознана самим Достоевским. Но тем знаменательнее сам этот факт: присутствие пушкинского контура в интимнейшем из созданий писателя. Как заметила Л. М. Розенблюм, в поэме своего героя Достоевский отразил важнейшие черты собственного творческого процесса

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
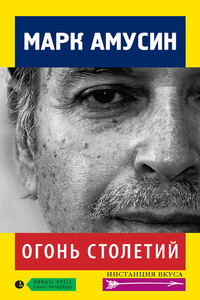
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)