Внутренний строй литературного произведения - [115]
Инночка, чертежи моей и Вашей жизни в чем то сейчас похожи. И я в состоянии крайнего метания, правда, не донжуанского, как у Вас (флирт или больше с Достоевским, Тютчевым, Некрасовым и сколькими еще! О Клеопатра, о Мессалина!). Мои метания в отличие от Ваших – от научного сверхаскетизма, доведенного до умоисступления: Блок, Блок, Блок! («Ох, тяжело, тяжело, господа, жить с одной женой всегда!» – говорится об этом в рассказе у Бунина.)
Я совершенно изныл и автоматизировался в своей работе. Сдать ее нужно к концу января, а она у меня совсем сырая, а вновь написанная часть – не знаю, хороша или плоха. Писал ее не умом и не сердцем, а волей – вряд ли выйдет толк. Главная новая часть о структуре, методе и т. д. прозы Блока – часть, которая должна быть присобачена к прежнему тексту. Сейчас, например, пишу о «поэтической мысли» – чем она отличается от обыкновенной… Но не стоит множить свои терзания, излагая эту муру.
Радуюсь Вашей храбрости: «Композиция романов Достоевского» – вот это наполеоновская тема! А некрасовской теме о «Морозе» завидую. «И я бы мог…» – как писал Пушкин под известным рисунком.
Хотя Вы, конечно, исчадие ада, но вспоминаю о Вас с нежностью. Люблю Вас за дух жизни, беспокойство и волю и, вероятно, главным образом, – ни за что, т. е. за самое главное, что не умею определить и не хочу определять. Не замолкайте надолго – ведь я уже в апокалиптической стадии жизни, а ТАМ мы, наверно, не встретимся: я буду в раю, а Вы – в аду, и визы на визит Вам не дадут. Обнимаю Вас.
Д. Максимов
27 сентября 1974 г.
Дорогая Инночка!
Без надежды понравиться Вам всерьез я все-таки посылаю Вам окончательный вариант стихотворения. В нем есть намек на «катарсис». Он не «пастернаковский», как хотели бы Вы. Но ведь Вы знаете, что сам Пастернак ушел от себя молодого и прелестного: так потребовала его совесть. Ведь чудесное «Давай ронять слова» (м. б., квинтэссенция раннего Пастернака?) таит в себе потенциальную опасность эстетизированного филистерства, а крайнее напряжение жизни («Да будет так же жизнь свежа») требует конкретизации, которая есть и жизнь, и более чем жизнь (Пастернака эта логика привела к христианству, но, конечно, возможны и другие выводы, например, вывод отрицания и борьбы – к нему был близок и Пастернак в романе)…
Я сказал бы так: я грущу, что во мне нет момента раннего «пастернаковского» праздника. Но превращение такого момента в credo сейчас, в наше время, я считал бы грешным. И Пастернак (поздний) пожал бы мне на этом руку, хотя ранний Пастернак был прав и свят в своем универсальном утверждении жизни.
Согласны ли Вы со мной?
..Я расписался непозволительно.
Меня размывают болезнь и работа. Меня просто нет…
…Я хочу очень поблагодарить Вас за очень милый мне Ваш приезд в Малеевку. Обнимаю Вас за это и вообще.
Пока ухожу в свою муру.
Ваш Д. Максимов.
Как Вы? Напишите.
…
27 февраля 1982 г.
Дорогая Инна, простите, что долго Вам не отвечал. Ваше письмо пришло в очень тяжелые дни. Мы с Л. Я. за этот месяц спустились еще, и очень круто, на несколько ступенек вниз (от медицинских подробностей Вас избавляю). Сейчас несколько лучше. Уровень: 3 с минусом.
Прочитал с интересом о Вашем отходе от агрессивного атеизма и, кажется, об уважении (или вроде) к Христу (ср. Ренан). Для «науки» это движение, конечно, полезно, но в этом фидеизме, релятивизме, позитивизме нет поэзии, которая все-таки – сигнал на пути к истине (за неимением оной). К сожалению, в этом прозаическом круге – не только Вы, но отчасти и наше время – трагическая обреченность на прозу
Я благодарен Вам за отнесение меня (в дарственной надписи) к серьезной части человеческого рода. Пожалуй, это – один из самых важных критериев. Не случайно я осмелился применить его в своей книге к характеристике символистов. Хорошие слова и даже декларации о трагизме часто были лишены у них серьезности («Да, я – поэт трагической забавы») и тем самым мало стоили. Не есть ли серьезность – начало всякого дела – жизненного, художественного, научного? (простите меня за банальный педантизм!).
Конечно, Ваша подпись «от хулиганствующей ученицы» – шутка. Если бы было иначе, я опять бы высказался от имени педанта. Сказал бы, например, что «хулиганствование» в литературе исторично и оправдано в определенные моменты истории (футуристы, Есенин), а в другие моменты, например, в наше время, – архаично и демоде. Если у нас есть какой-то долг перед людьми, Богом, совестью (как ни называй!), то прежде всего быть серьезными и ответственными, даже в «игре» (признак хулиганства – безответственность – сколько у нас такого!). Слава Богу, к Вам это не относится – верю в это. И надеюсь в Вашей последней статье (ее еще не читал) найти подтверждение своей веры. Ведь Вы – человек науки, которая между прочим думает об истине и в которой даже шутки ответственны.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
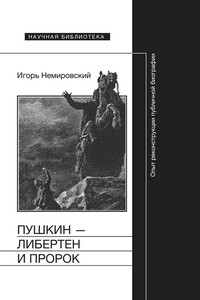
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.